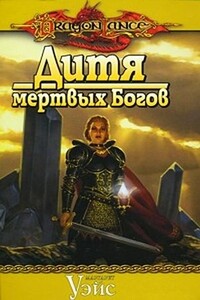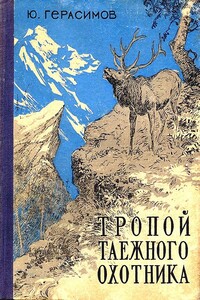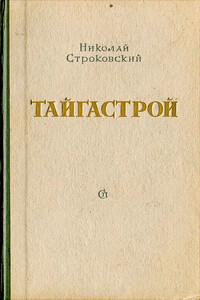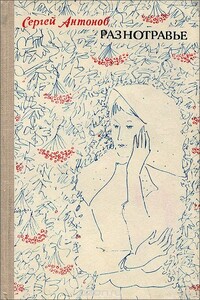Старик с утра начал маяться. Мучительная слабость навалилась… Слаб он был давно уж, с месяц, но сегодня какая-то особенная слабость — такая тоска под сердцем, так нехорошо, хоть плачь. Не то чтоб страшно сделалось, а удивительно: такой слабости никогда не было. То казалось, что отнялись ноги… Пошевелит пальцами — нет, шевелятся. То начинала терпнуть левая рука, шевелил ею — вроде ничего. Но какая слабость, Господи!..
До полудня он терпел, ждал: может, отпустит, может, оживеет маленько под сердцем — может, покурить захочется или попить. Потом понял: это смерть.
— Мать… А мать! — позвал он старуху свою. — Это… помираю вить я.
— Господь с тобой! — воскликнула старуха. — Кого там выдумываешь-то лежишь?
— Сняла бы как-нибудь меня отсудова. Шибко тяжко. — Старик лежал на печке. — Сними, ради Христа.
— Одна-то я рази сниму. Сходить нешто за Егором?
— Сходи. Он дома ли?
— Даве крутился в ограде… Схожу.
Старуха оделась и вышла, впустив в избу белое морозное облако.
«Зимнее дело — хлопотно помирать-то», — подумал старик.
Пришел Егор, соседский мужик.
— Мороз, язви ево! — сказал он. — Погоди, дядя Степан, маленько обогреюсь, тогда уж полезу к тебе. А то застужу. Тебе чего, хуже стало?
— Совсем плохо, Егор. Помираю.
— Ну, что ты уж сразу так!.. Не паникуй особо-то.
— Паникуй не паникуй — все. Шибко морозно-то?
— Градусов пятьдесят есть. — Егор закурил. — А снега на полях — шиш. Сгребают тракторами, но кого там!
— Может, подвалит ишо.
— Теперь уж навряд ли. Ну, давай слезать будем…
Старуха взбила на кровати подушку, поправила перину. Егор встал на припечек, подсунул руки под старика.
— Держись мне за шею-то… Вот так! Легкий-то какой стал!
— Выхворался…
— Прям как ребенок. У меня Колька тяжельше.
Старика положили на кровать, накрыли тулупом.
— Может, папироску свернуть? — предложил Егор.
— Нет, неохота. Ах ты, Господи, — вздохнул старик, — зимнее дело — помирать-то…
— Да брось ты! — сказал Егор серьезно. — Ты гони от себя эти мысли. — Он пододвинул табуретку к кровати, сел. — Меня на фронте-то вон как задело! Тоже думал — каюк. А доктор говорит: захочешь жить — будешь жить, не захочешь — не будешь. А я и говорить-то не мог. Лежу и думаю: «Кто же жить не хочет, чудак-человек?» Так что лежи и думай: «Буду жить!»
Старик слабо усмехнулся.
— Дай разок курну, — попросил он.
Егор дал. Старик затянулся и закашлялся. Долго кашлял…
— Прохудился весь… Дым-то, однако, в брюхо прошел.
Егор хохотнул коротко.
— А где шибко-то болит? — спросила старуха, глядя на старика жалостливо и почему-то недовольно.
— Везде… Весь. Такая слабость, вроде всю кровь выцедили.
Помолчали все трое.
— Ну, пойду я, дядя Степан, — сказал Егор. — Скотинешку попоить да корма ей задать…
— Иди.
— Вечерком ишо зайду попроведую.
— Заходи.
Егор ушел.
— Слабость-то, она от чего? Не ешь, вот и слабость, — заметила старуха. — Может, зарубим курку — сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то… А?
Старик подумал.
— Не надо. И поесть не поем, а курку решим.
— Да Бог уж с ей, с куркой! Не жалко ба…
— Не надо, — еще раз сказал старик. — Лучше дай мне полрюмки вина… Может, хоть маленько кровь-то заиграет.
— Не хуже ба…
— Ничо. Может, она хоть маленько заиграет.
Старуха достала из шкафа четвертинку, аккуратно заткнутую пробкой. В четвертинке было чуть больше половины.
— Гляди, не хуже ба…
— Да когда с водки хуже бывает, ты чо! — Старика досада взяла. — Всю жизнь трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство. Сундуки какие-то…
— Хоть счас-то не ерепенься! — тоже с досадой сказала старуха. — «Сундуки»… Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит кого-то. Не велел доктор волноваться-то.
— Доктор… Они вон и помирать не велят, доктора-то, а люди помирают.
Старуха налила полрюмочки водки, дала старику. Тот хлебнул — и чуть не захлебнулся. Все обратно вылилось. Он долго лежал без движения. Потом с трудом сказал:
— Нет, видно, пей, пока пьется.
Старуха смотрела на него горько и жалостливо. Смотрела, смотрела и вдруг всхлипнула:
— Старик… А, не приведи Господи, правда помрешь, чо же я одна-то делать стану?
Старик долго молчал, строго смотрел в потолок. Ему трудно было говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.
— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца». Скажи. Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты. Стыд стыдом, а дожить тоже надо. Пусть лучше ему будет стыдно. Маньке напиши, штоб парнишку учила. Парнишка смышленый, весь «Интернационал» назубок знает. Скажи: «Отец велел учить». — Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим.
— А Петьке чего сказать? — спросила старуха, вытирая слезы; она тоже настроилась говорить серьезно и без слез.
— Петьке?.. Петьку не трогай — он сам едва концы с концами сводит.
— Может, сварить бульону-то? Егор зарубит…
— Не надо.
— А чего, хуже становится?
— Так же. Дай отдохну маленько. — Старик закрыл глаза и медленно, тихо дышал. Он правда походил на мертвеца: какая-то отрешенность, нездешний какой-то покой были на лице его.
— Степан! — позвала старуха.
— Мм?
— Ты не лежи так…