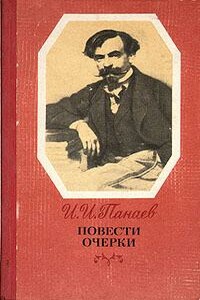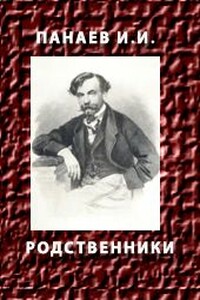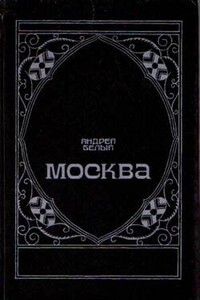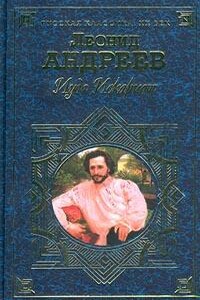Поэтъ, не дорожи любовію народной.
А. Пушкинъ.
Какъ я люблю огромную залу, горящую тысячами огней, которые ослѣпительно играютъ на позолотѣ и безконечно отражаются въ неизмѣримыхъ зеркалахъ, и эти цвѣтныя гирлянды дамъ, ароматическія гирлянды, переплетенныя жемчугомъ, брилліантами и золотомъ, и этотъ бѣшеный вальсъ, такъ хорошо понятый геніемъ гостиныхъ, этимъ плѣнительнымъ Штраусомъ, танецъ соблазна и нѣги, отъ котораго замираетъ дыханіе!.. Этотъ неумолкающій говоръ, и отрывки рѣчей, и полувзгляды, и вѣчное движенье, и странная пестрота, и фантастическое великолѣпіе — развѣ все это не поэма въ полномъ и современномъ значеніи этого слова, и развѣ она не занимательнѣе цѣлыхъ страницъ in-folio, вырванныхъ изъ громадной Иліады, развѣ не пестрѣе, не цвѣтистѣе и не понятнѣе какой-нибудь длинной сказки Шехеразады?.. Сколько любви, сколько страстей, сколько надеждъ, сколько мыслей волнуются въ этой залѣ! А подъ громъ оркестра, подъ чародѣйные звуки, подъ гармоническій голосъ Россини и Моцарта, сердце сильнѣе бьется въ груди, страсти мятежнѣе разгораются, ярче блещетъ надежда, мысли какъ-то легче настраиваются на поэтическій ладъ и безконечнѣе развиваются…
Мнѣ всегда казались сомнительными люди, нападающіе на общество, люди, злословящіе людей. И, въ самомъ дѣлѣ, эти Манфреды и Лары въ короткихъ и узкихъ фракахъ, съ черепаховыми лорнетами на груди, проповѣдывающіе байронизмъ и важно разсуждающіе о Гётевомъ "Фаустѣ", прислонясь къ мраморному камину, уставленному вычурными вещами рококо — не должны ли они, эти люди, казаться немного сомнительными? — Но мнѣ непріятна хула на людей даже въ устахъ человѣка, не выходящаго изъ ограниченнаго очертанія своего домашняго круга и читающаго только въ русскихъ переводахъ повѣсти Бальзака и Зандъ.
Я не разъ слышалъ разсказы о злобѣ людей, о ихъ эгоизмѣ, мстительности и о прочемъ, скрывающемся подъ непроницаемою личиною милой свѣтской привѣтливости: эти рѣчи вырывались часто изъ сердца глубоко уязвленнаго; въ рѣчахъ была та страдальческая музыка, отъ которой нехотя навертываются на глазахъ слезы; и странно: при всемъ этомъ я до сихъ поръ еще такъ люблю людей и такъ простодушно вѣрю ихъ добросердечію!
Или опытъ не сжималъ меня своею желѣзною рукавицей, или я принадлежу къ числу тѣхъ милыхъ людей, которымъ, Богъ знаетъ почему, истина никогда не показывается лицомъ къ лицу, и которые вѣчно скользятъ по поверхности человѣчества?
Да, что ни говорите, а въ человѣкѣ мнѣ кажется все искреннимъ отъ самыхъ важныхъ дѣйствій его до самаго незначительнаго движенія. Я не могу себѣ представить злодѣя съ простодушною улыбкою, подлеца, не краснѣя говорящаго о чести, ханжу, со слезами разсуждающаго о высокомъ христіанскомъ долгѣ. Въ Тартюфѣ я никогда не могъ видѣть лицо дѣйствительное; правда, Яго, Шекспировъ Яго всегда смущалъ меня, но я гналъ прочь отъ себя образъ этого демона, это чудовищное порожденіе исполина-поэта. Я думалъ — и часто теперь думаю: если я не далъ повода людямъ дѣлать мнѣ зло, они, вѣрно, не сдѣлаютъ мнѣ зла… и искренно жму руку каждому, и считаю каждое привѣтствіе на это рукопожатіе искреннимъ…
Случилось (не помню, очень давно кто-то сказывалъ мнѣ) — что отъ одного слова какой-то жеищины зависѣло счастіе или несчастіе, спокойствіе или страданье цѣлаго семейства. Она очень хорошо знала объ этомъ, и что же? Слывя въ свѣтѣ за необыкновенно чувствительную и добродѣтельную, не запинаясь, еще съ равнодушною улыбкою, произнесла слово, которымъ погубила цѣлое семейство и сдѣлалась убійцею человѣка. Правда ли это? Какъ смѣть поручиться, что этотъ поступокъ былъ умышленный?
Нѣтъ, это клевета на людей, самая дерзкая клевета! О, люди понимаютъ и умѣютъ сочувствовать до самоотверженія несчастію вчуже. Нужно ли слезъ — они плачутъ; нужно ли утѣшенія — они утѣшаютъ, и съ какимъ увлекательнымъ краснорѣчіемъ, съ какою энергическою силою!.. Слово и слезы! чего же болѣе? Они плачутъ въ театрѣ отъ кривляній актера, закалывающаго себя бумажнымъ кинжаломъ; ихъ слезы градомъ льются на чувствительныя страницы какого-нибудь романа… О, какъ же они должны сострадать истинному несчастію! Я убѣжденъ, что людямъ доступно все высокое, все прекрасное — и безграничная степь морской зыби, позлащенной вечернею зарею, и молнія, мгновенно обхватывающая пламенемъ черное небо, мгновенно озаряющая землю страшнымъ сіяньемъ послѣдняго дня, и тихій вечеръ, растворенный ароматомъ цвѣтовъ, когда вся природа роскошно отдыхаетъ, упоительно нѣжится, когда все въ дивномъ, благоговѣйномъ безмолвіи, только соловей свищетъ, трелитъ и заливается…
Ради Бога, не увѣряйте меня, что для людей мертва поэзія природы. Неправда! Они съ благоговѣйнымъ страхомъ, съ молитвою на устахъ, внемлютъ гласу Божьему въ часъ бури; они съ трепетомъ сердца, съ замираніемъ духа прислушиваются къ выстраданной гармоніи великаго поэта.
Для нихъ дорогъ онъ — избранникъ Господень, вдохновенный провидѣцъ грядущаго, чудодѣйственно возносящій ихъ къ небу и съ недосягаемой высоты показывающій имъ, бѣднымъ муравьямъ, на точку земли, гдѣ они суетливо и безтолково роятся! И они, въ награду за это, лелѣютъ его, устилаютъ жизненный путь его цвѣтами, хранятъ его, какъ зѣницу ока! — Я гдѣ-то читалъ: "общество убило поэта". Какая нелѣпая фраза! Эти