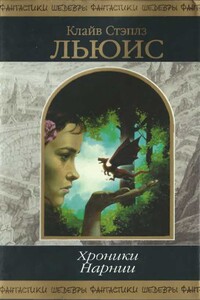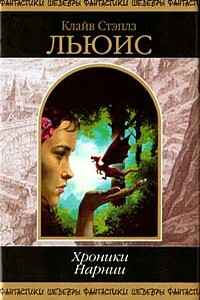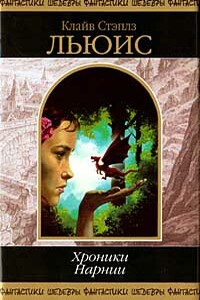Эта книга — прекрасный способ отметить пятидесятую годовщину кончины К. С. Льюиса, и я очень рад тому, что Николай Эппле предпринял перевод и подготовку к изданию книг, предлагаемых вниманию русского читателя. Громадная популярность христианской апологетики Льюиса, его фантастических повестей и «Хроник Нарнии» несколько заслонила от нас огромную и крайне важную сторону его гения: историко–литературные и критические работы. Литературоведение Льюиса не так просто увязать с остальным его творчеством. Но даже если бы он не написал ничего, кроме ученых книг, у нас было бы ценнейшее сокровище: опубликованные здесь работы — не только исследования литературных произведений других авторов, это самостоятельные литературные явления.
В 1963 году К. С. Льюис сказал мне, его тогдашнему секретарю, что любит писать в первую очередь потому, что это помогает ему мыслить: «Я не знаю до конца, что имею в виду, пока не выражу этого на бумаге». Примерно с пяти лет Льюис буквально бредил историями о выдуманной им стране говорящих зверей, но ему мешало неумение писать. Специально для него родители заказали маленький письменный стол, и очень скоро он приступил к выяснению того, что же имел в виду, начав писать за этим детским столом. Сейчас этот стол стоит у меня дома, и он бесконечно дорог мне, потому что именно с него начался Льюис как писатель.
Льюис открыл для себя литературоведение лишь в 1919 году, вернувшись в оксфордский Университетский колледж после двух лет в армии. В литературном обществе «Мартлеты», объединившем студентов колледжа, Льюис впервые обретает свой «голос». На протяжении нескольких лет он читал в обществе доклады об Уильяме Моррисе, Эдмунде Спенсере, Джеймсе Стивенсе и других авторах.
Между тем Льюис с отличием сдает экзамены по философии, античной и английской литературе и через три года становится преподавателем английского отделения Модлин–колледжа. Замысел «Аллегории Любви» (1936), его первой и, возможно, самой выдающейся литературоведческой работы, относится к 1925 году. В письме отцу он сообщает:
Это будет книга о средневековой любовной поэзии и средневековой концепции любви. Тема, если внимательно к ней присмотреться, глубоко неоднозначная. Для куртуазного любовника наличие у его дамы мужа — дело чести, это касается и Данте с Беатриче, и Ланселота с Гвиневерой и т. д.[1].
Несмотря на огромный круг тем, затрагиваемых в «Аллегории», цель Льюиса неизменно ясна и отчетлива. Он начинает первую главу о куртуазной любви со следующего наблюдения:
Человечество в своем развитии не проходит различные фазы, как поезд минует станции; оно — живое и обладает привилегией всё время двигаться, не оставляя ничего позади. Чем бы мы ни были в прошлом, тем же, в определённой степени, мы остаёмся и теперь. Ни внешние черты старой поэзии, ни чувства, там описанные, не прошли бесследно для нашего сознания. Мы сможем лучше понять настоящее, а быть может — и будущее, если нам удастся восстановить то давно утерянное состояние мысли, для которого аллегорическая любовная поэма была естественной формой выражения[2].
Один из самых уравновешенных и компетентных отзывов о книге оставил нам медиевист Джон Лоулор, сначала студент Льюиса, а впоследствии его коллега. ««Аллегория Любви» — пишет он, — со временем не теряет притягательности увлекательного чтения, чем могут похвастаться очень немногие историко–литературные работы. И если можно говорить о том, что традиция скучных ученых трактатов преодолена, эта заслуга в значительной степени принадлежит выдающейся книге Льюиса, которая никогда не лишится своего читателя»[3].
3 марта 1930 года во время работы над «Аллегорией Любви», Льюис сделал доклад на одном из собраний «Мартлетов», который послужил началом весьма характерного эпизода его историко–литературной деятельности. В своем докладе он критиковал представление о том, что, читая стихотворения того или иного автора, мы с головой погружаемся в его личность, а «жизнь» и «творения» поэта представляют собой различные проявления единой сущности. Он писал:
Само собой разумеется, я каким‑то образом сближаюсь с поэтом: я проникаю в его сознание, но вовсе не посредством изучения его биографии. Я смотрю на вещи — не на него самого! — его глазами. И тем единственным, чего я не вижу, на какое‑то время оказывается он сам. Ибо, глядя вокруг, мы видим глаза других, но никак не свои собственные… Поэт — не тот, кто просит меня смотреть на него, а тот, кто говорит «взгляни вот на это» — и показывает. И чем дальше я следую в указанном им направлении, тем меньше могу видеть его самого [4].
Доклад вызвал длительную полемику с кембриджским литературоведом Ю. М. У. Тийяром, в 1939 году опубликованную в виде книги «Ересь персонализма». В своей работе «Мильтон» (1930) Тийяр сетует на то, что стиль автора «Потерянного Рая» «интересует критиков куда больше, чем действительный предмет поэмы, сознание самого Мильтона в момент ее написания»[5]. В первом разделе сборника Льюис возвращается к теме своего доклада «Мартлетам»: «Желая смотреть на вещи так, как смотрит на них поэт, я должен примерить на себя его образ мыслей, а не наблюдать за ним со стороны… Он должен стать магическим кристаллом, сквозь который, а не на который я смотрю»