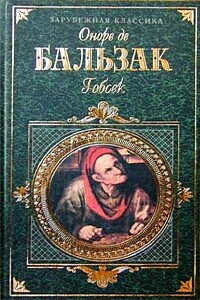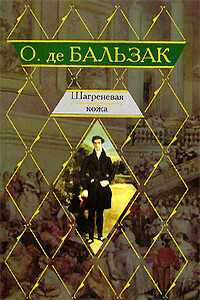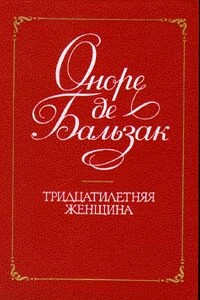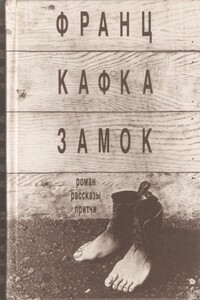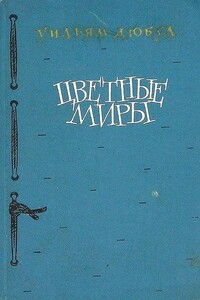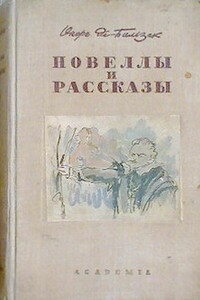В зимние ночи суета на улице Сент-Оноре замирает совсем ненадолго, — едва кончится разъезд карет после спектаклей и балов, начинается движение зеленщиков к Центральному рынку. В ту пору, когда стихает великая симфония парижских шумов, около часа ночи, жена г-на Цезаря Бирото, владельца парфюмерной лавки у Вандомской площади, внезапно пробудилась от страшного сна. Жена парфюмера видела себя сразу в двух лицах: она предстала сама пред собой в лохмотьях; иссохшей, морщинистой рукой она пыталась приоткрыть дверь собственной лавки, где находилась одновременно и на пороге, и на своем обычном месте — за конторкой; она у себя самой просила милостыню, слышала свой голос и в дверях и у кассы. Г-жа Бирото решила разбудить мужа, но рука ее нащупала лишь пустоту. Тогда она вся похолодела от страха, не в силах была повернуть головы, шея у нее одеревенела, перехватило дыхание и пропал голос; она замерла, пригвожденная к своему ложу за отдернутыми занавесями алькова, глаза ее расширились и неподвижно уставились в одну точку, волосы на голове зашевелились, в ушах звенело, сердце сжималось и часто билось, она обливалась холодным потом.
Страх — явление столь сильное и болезненно действующее на организм, что все способности человека внезапно достигают либо крайнего напряжения, либо приходят в полный упадок. Физиологов долгое время смущал этот феномен, он опровергал их теории и опрокидывал их догадки; хотя страх — это всего лишь электрический разряд в организме, он, как всякое электрическое явление, принимает формы странные и причудливые. Объяснение это станет общепринятым, когда ученые постигнут огромную роль электричества в человеческой психике.
Госпожа Бирото испытала жестокий толчок, одно из тех душевных потрясений, которые какой-то непонятной силой ослабляют или напрягают волю и как бы просветляют ум. За очень краткий промежуток времени, если измерять его по часам, но неизмеримо огромный по количеству мгновенных впечатлений, бедная женщина обрела поразительную остроту мысли и столько передумала и вспомнила, сколько в обычном состоянии не могла бы успеть и за целый день. Содержание ее мучительного и безмолвного монолога можно передать в нескольких нелепых, противоречивых, бессвязных словах:
— Зачем понадобилось Бирото встать ночью? Не объелся ли он телятины? Не худо ли ему? Нет, он разбудил бы меня, если бы занемог. Девятнадцать лет, как мы спим вместе в этой кровати, в этом доме, и ни разу он, бедняжка, не вставал с постели, не предупредив меня! Он не ночевал дома, только когда дежурил в кордегардии. Да ложился ли он спать сегодня? Ну конечно. Господи, до чего ж я глупа!
Она оглядела постель и заметила ночной колпак мужа, сохранивший почти коническую форму головы.
— Значит, он умер! Покончил с собой! Почему? — спрашивала она себя. — Вот уж два года, как его назначили помощником мэра, и с тех пор он сам не свой. Избрать его в муниципалитет, — да куда это годится, право! Торговля идет хорошо: он подарил мне шаль. Но, быть может, его дела и не так уж хороши? Ну, я бы уж об этом знала. Хотя, поди-ка узнай, что у мужчин на уме? Да и у женщин тоже! Ну, это еще не беда. Но разве мы сегодня не наторговали на пять тысяч франков? А потом, помощник мэра не может наложить на себя руки, ему-то хорошо известно, что это противозаконно. Так где же он?
Она не в силах была ни повернуть головы, ни протянуть руки к шнурку колокольчика, чтобы разбудить кухарку, трех приказчиков или рассыльного при лавке. Под влиянием кошмара, мучившего ее и после пробуждения, она даже не вспомнила о дочери, мирно спавшей в соседней комнате, дверь в которую находилась как раз возле ее кровати. Наконец она крикнула: «Бирото!» Никакого ответа. Ей показалось, что она позвала мужа, на самом деле она лишь мысленно произнесла его имя.
— Неужели у него есть любовница? Нет, — возразила она сама себе, — он слишком глуп и к тому же слишком любит меня. Не говорил ли он госпоже Роген, что никогда не изменял мне, даже в мыслях. Этот человек — сама честность, сошедшая на землю. Если кто и заслуживает рай, так это он. Ну, в чем может он каяться своему исповеднику? В сущих пустяках. Хоть он и роялист (а почему — только богу известно), он не больно-то выставляет напоказ свою набожность. Бедный котик, уже в восемь часов он крадется потихоньку к обедне, словно в увеселительное заведение. Он боится бога ради самого бога и даже не думает об аде. Ему ли иметь любовницу, когда он почти не отходит от меня; даже надоел. Я дороже ему всего на свете, он бережет меня как зеницу ока. За девятнадцать лет ни разу голоса не повысил, разговаривая со мной. Даже дочь у него на втором месте. Да ведь Цезарина-то здесь... Цезарина! Цезарина! Не было еще у Бирото таких намерений, которые он скрыл бы от меня. Правду он говорил, когда приходил в «Маленький матрос» и уверял, что со временем я его узнаю и оценю. И вдруг исчез!.. Просто невероятно!
Она с усилием повернула голову и окинула беглым взглядом комнату, полную в этот час причудливых ночных теней; изображая их, писатель познает муки слова, и лишь кисть художника-жанриста может их воссоздать. Какими словами передать ужасные зигзаги пляшущих силуэтов, фантастические очертания раздуваемых ветром гардин, игру трепетных отсветов ночника на складках красного коленкора, огненные блики на бронзовой розетке оконных занавесей, сверкающая середина которой напоминает глаз вора; платье, похожее на коленопреклоненное привидение, — словом, все странности, терзающие воображение в те минуты, когда оно отдается во власть душевных страданий и усугубляет их.