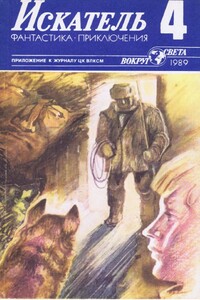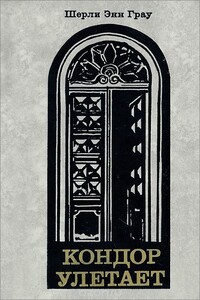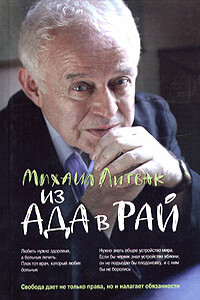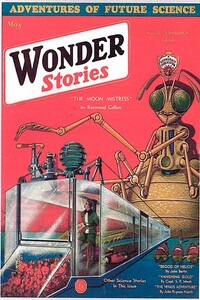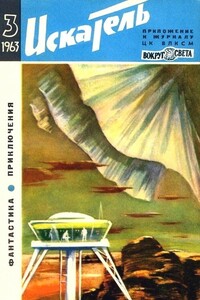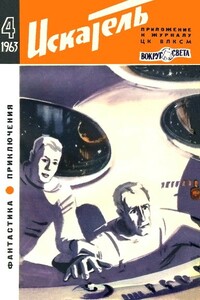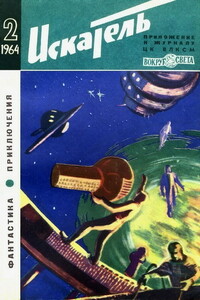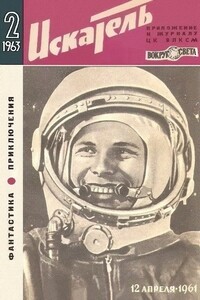Николай Балаев
ЖИВУЩИЕ-НА-ЗЕМЛЕ
Будить, всеми силами будить в человеке Человека!
Федор Абрамов
ЭПИЛОГ
Гырголь вытер руки о кухлянку и, натужно кряхтя, склонился над Ыплылы, рыжей сукой. Та покорно упала на бок, подрагивая лапами, открыла детей. Гырголь положил рядом кусок брезента и перекидал на него выводок. Ыплылы заскулила, лизнула руку хозяина.
— Ху-ху! — Гырголь оттолкнул собачью морду: — Уймись!
Собрав углы брезента, хозяин отнес выводок в сторону и высыпал на мокрый весенний снег. Щенки заскулили, полезли друг на друга. Ыплылы рванулась к ним, но цепь дернула обратно,
— Ав-в-взз! А-зз! — закричала Ыплылы и заскребла снег.
— Экуликэ! — Гырголь ткнул ее ногой в бок: — Тихо!
Один из щенков выбрался из кучи, покрутил головой и пополз к матери. Ыплылы торопливо лизнула его в нос, подтолкнула на обрывок оленьей шкуры, служившей подстилкой, свернулась вокруг щенка кольцом и, посучив задними лапами, прижала дитя к брюху.
— Этот ныгыттэпкин, — пробормотал Гырголь, — у-умный.
Кучка распалась. Пища и тычась носами в снег, щенки поползли в разные стороны. Но вот один из них повернул к матери.
— Тоже немножко умный. — Гырголь подтолкнул его к Ыплылы. — А других можна…
Он осекся — к матери повернул еще один щенок, такой же рыжий, как она, но на полпути остановился.
— Вынэ, вынэ! — Гырголь подбадривающе зачмокал.
Однако щенок подергал мордой и пополз в сторону. Он не пищал. Обнюхал унт Тросова и направился к сапожку Фанеры, потом его внимание привлек обломок моржового ребра.
— Энарэрыльын, — сказал Гырголь: — Ищущий. — Качнувшись, он шагнул вперед и хотел подвинуть рыжего к матери.
— Хватит! — решительно сказала Фанера и носком сапога отпихнула щенка: — Нам чего останется?
— Действительно. Лучше глянь, дед. — Тросов приоткрыл в корзине горлышко бутылки.
— Примани, примани! — кивнула Фанера и состроила старику гримасу: — Алкаш и есть алкаш, как мотылек на огонек.
— Я Гырголь! — старик попытался выпрямиться и ударить себя кулаком в грудь.
— Был Гырголь, хы! — хмыкнул Тросов: «Выс-сокий, тоже мне… Малечгын ты сейчас, дерюга подпорожняя. Вот сам глянь, кто ты. На. — Он скривился и протянул Гырголю бутылку. Тот схватил ее и торопливо, зубами, сдернул с горлышка железку, затем попробовал скрюченными дрожащими пальцами выколупнуть пластиковую пробку, но пальцы не слушались. Тогда он и пробку вытащил зубами и поймал горло уже чмокающими, враз заслюнявившимися губами.
— И есть — малечгын! — Фанера хихикнула, но тут же посерьезнела и деловито сказала: — За трех одна бутылка, за четырех — две.
— Простая… генометрия, — Тросов одобрительно ощерился. — Берешь? Или уходим.
— Ладына, — прохрипел Гырголь.
Тросов выставил вторую бутылку и положил щенков в пластиковую корзинку.
— У-ух-ха, твари вы мои ползучие. Все, дед, будь здоров. Надеюсь, доволен?
Гырголь молча сунул руку в корзину, перебрал щенков, поднял на ладони рыжего. Но, глянув на воткнутые в снег бутылки, вздохнул:
— Нытэнкин ссинки, хороший.
— Одних дураков выдал, гы!
— Зачем умный на шапку, красивый бери. Умный нада работать.
— Господи, он еще и о работе, пьянь несусветная. — Фанера покрутила головой: — Камака тебе скоро, алкоголик. Погибель. Вот летом еще пароход привезут — и все.
— Да это собачий рефлекс у него остался. — Тросов махнул рукой: — Уже год как в бригаде не был, тут пасется.
— Писинер я, — сказал Гырголь.
— Во-во. Отдыхает заслуженно. На книжке-то хоть чуть осталось? Чего в лавку не заглядываешь? Раньше было не выгнать. Совсем без тебя нечем план делать, го-го-го!
Гырголь промолчал.
— Поня-ятно. А двадцать тысяч с гаком было! — Тросов даже зажмурился. — Да на такие деньги… Все растеклось по бичам. И теперь ни бичей, ни денег. Нынешние друзья-товарищи, дед, только до ободка рублика. А насчет умных — так ты все перепутал. Шапки нынче шьют как раз из умников, чтобы свои бестолковки прикрывать.
— Пошли, философ, — сказала Фанера.
Поселок состоял из длинных верениц маленьких домиков, рассчитанных на одну семью. Только слева, в начале каждой вереницы, стояло по восьмиквартионому двухэтажному дому, а против подъезда такого дома — сарай на восемь ячеек. Каждая вереница напоминала пассажирский состав. В восьмиквартирниках — машинисты, а далее, разделенные снежными сугробами — семейные вагончики. Мчались уже много лет эти поезда по берегу Восточно-Сибирского моря, заносимые пургой, затираемые льдами — в холод, мрак и ледяное месиво.
Тросов и Фанера пошли к одному из сараев, к своей ячейке. У соседней расчищал совковой лопатой подходы к двери Шалашенко, повар совхозной столовой.
— Здоровенько, — произнес повар и поклонился Фанере: — Вере Семеновне мое почтеньице.
Та кивнула.
— Дай-ка лопату, — сказал Тросов.
— Что у вас пищит? — Шалашенко глянул в корзину: — У-у, якие шапки! У кого ж брали?
— Там больше, х-х, нет, — пропыхтел Тросов, орудуя лопатой.
— Себе?
— А то кому? Осенью в отпуск на материк лететь, а шапок приличных нету. Соседи дома скажут: се-ве-ря-не!
— Может, уступите пару? А?.. Ну хоть одного.
— По четвертаку брали, — сказала Фанера.
— М-мм-да… А може, так: вы мне щенка, я — питание на всех. Вон того, черненького. Супруге как раз к лисе.