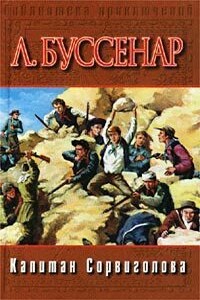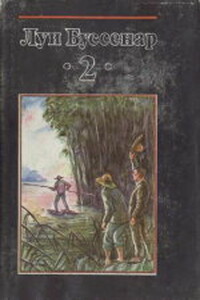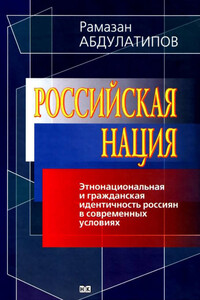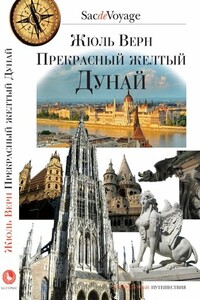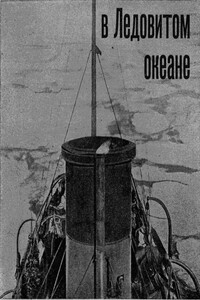Мне хорошо было известно, насколько по характеру спокойны и уравновешенны индейцы. Но не до такой же степени!
Их внешняя нечувствительность и сдержанность в проявлении как радостных, так и горестных эмоций поразительны, но еще более удивляет их способность оставаться абсолютно невозмутимыми в самых неожиданных, порой драматических обстоятельствах. История, свидетелем которой я случайно оказался, — тому доказательство. Судите об этом сами.
…Более месяца мне пришлось жить в тропическом девственном лесу, занимаясь охотой, рыбной ловлей и сбором насекомых. Ночь я проводил под навесом, который всякий раз приходилось возводить на новом месте. Не уставая каждый раз восхищаться новым зрелищем, которое открывала взору амазонская Изида[1], я наслаждался природой с жадностью рафинированного европейца.
В один из таких вечеров проводник Ярури, обратись ко мне, сказал:
— Недалеко отсюда деревня…
— Сколько дней ходьбы до нее?
— Один.
— Тебе, наверное, хочется увидеть жену и детей?
— Да… И выпить с кумом «кашири»…
— В таком случае идем.
Проводник, обычно флегматичный, ускорил шаг.
Не знаю, желание увидеться с семьей было тому причиной, или любовь к «кашири» оказалась более сильным стимулом?
Примерно через двенадцать часов мы подошли к засеке, в центре которой живописно расположились около тридцати хижин, очень красивых и уютных. Это и была деревня — родина моего компаньона Ярури.
Нас встретили приветственными криками, а вождь племени произнес такую восторженную речь, словно обращался к важной персоне.
Затем меня повели в самую просторную хижину, занимающую, казалось, половину всего селения, всполошив при этом маленький зверинец — экзотических птиц и обезьян, которые принялись порхать, прыгать и гримасничать, увидев диковинное для них существо в белом фланелевом костюме.
В хижине, походившей на гигантский зонтик, стояли искусно вырезанные из дерева скамьи с изображениями животных — черепах, кайманов, тапиров и других обитателей здешних мест.
Под легкой крышей, покрытой красивыми маисовыми листьями, я заметил множество стрел с луками из железного дерева[2]. При необходимости они, по-видимому, превращались в грозное оружие этого маленького племени.
Середину хижины занимали две огромные винные бочки, выдолбленные из не поддающегося гниению ствола дерева-великана, называемого на местном наречии «бемба», по тому же принципу, каким пользовались индейцы при изготовлении лодок.
Каждая из бочек содержала приблизительно по восемь — десять гектолитров жидкости, издающей сильный запах алкоголя и стекающей крупными каплями на землю через полузакрытый кран. Густое месиво, образовавшееся тут за годы, магнитом притягивало к себе любителей выпить.
Хижина была чем-то вроде постоялого двора для приезжих — каждый мог оставаться здесь сколько душе угодно и прикладываться к винным бочкам, благо спиртное не стоило ни гроша. Вот идеальный кабачок на все времена!
Я не любитель «кашири» — местного напитка, столь популярного среди индейцев Южной Америки. Но, чтобы не обидеть хозяев своим отказом, пришлось мужественно принять этот «нектар», который щедро нацедил из бочки вождь племени.
Сделав в знак вежливости последний глоток, я протянул чашу Ярури, который охотно наполнил ее, мгновенно опустошил, тут же снова налил и выпил, да так проворно, как не снилось самому отъявленному пропойце парижского кабака.
Любовь к семье явно отступала на второй план. Алкоголь сильно действовал на моего проводника, приглушая отцовские и супружеские чувства. Если он и дальше будет так ненасытно наполнять себя «кашири», с сожалением думал я, то очень скоро смертельно опьянеет, и мадам Ярури вместо супружеских ласк получит совсем иное, ибо всем известно, что пьяный индеец далеко не сентиментален.
Когда я размышлял обо всем этом, а мой компаньон подносил ко рту третью чашу, в хижине появилась женщина, державшая за руку ребенка лет пяти-шести. Вид ее заставил меня вздрогнуть. С мертвенно-бледным лицом, в каплях холодного пота, с безжизненным взглядом, она с трудом держалась на ногах, конвульсивно дергая окровавленным обрубком правой руки. Кожа лилового цвета свисала лохмотьями, обнажая неправдоподобно белую неровную кость, как будто отхваченную наискось зубьями шестерни. Ярко-красная кровь пульсировала на краю обрубка, образуя маленькие пузырьки.
Ни звука, ни жалобы не слетало с губ женщины, лишь время от времени она бросала полный невыразимой ласки взгляд на ребенка, который крепко держался за ее левую руку. Вид бедного малыша был не менее удручающ.
Его длинные, черные, отливающие синевой волосы пропитались кровью. На спине, пояснице, животе виднелись свежие раны. На маленьком тельце не было живого места.
Эта полная трагизма сцена не вызвала ни возгласов удивления, ни тем более сострадания у соплеменников, хотя в хижине и около нее находилось с полсотни человек обоего пола.
Ярури, невозмутимо глядя на обоих изувеченных, допил до последней капли свой «кашири», сплюнул и произнес:
— Пожалуй, на сегодня хватит.
Не обнаруживая никаких признаков волнения и испытывая скорее удивление, он подошел к несчастным, вероятнее всего, ставшим жертвами какой-то страшной трагедии.