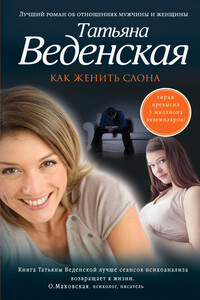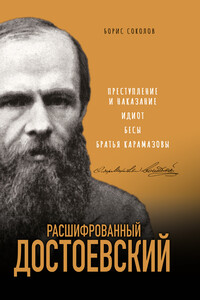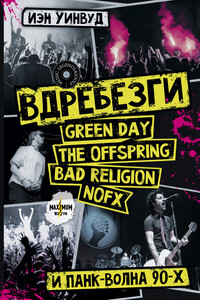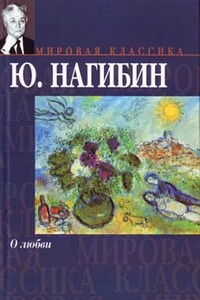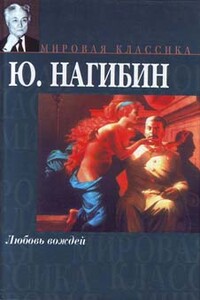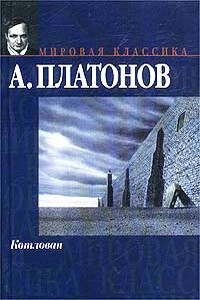Пушкин сказал, что любая мелочь, касающаяся великого человека, интересна и важна. Я не помню его формулировки, но мысль передаю верно. С этой точки зрения имеют смысл и мои крайне скудные заметки о взаимоотношениях и разговорах Андрея Платоновича Платонова с моим отчимом, писателем Яковом Семеновичем Рыкачевым. Думаю, что в предвоенные годы, во время войны и вплоть до смертельного заболевания у Платонова не было ближе людей в литературном мире, чем В. Гроссман, Р. Фраерман, Л. Гумилевский и Я. Рыкачев. Василий Семенович Гроссман вносил в свои отношения с Платоновым легкий, но утомляющий того дух соперничества (этот самолюбивый счет продолжался и после смерти автора «Чевенгура», похоже, Гроссман всерьез считал, что может тягаться с Платоновым), отношения с милейшим человеком Р. Фраерманом чуть осложнились после совместного написания пьесы «Волшебное существо», где Андрей Платонович начисто подавил своего соавтора, а отношения с Гумилевским и Рыкачевым были свободны от каких-либо привходящих обстоятельств.
Несколько слов о Я. Рыкачеве, ибо Платонов в рекомендациях не нуждается. Варлам Шаламов писал в своих воспоминаниях: «Сегодняшняя молодежь вовсе не знает имени Якова Рыкачева. А ведь он еще жив. Рыкачев был умным и тонким писателем, автором романа „Возвращение и падение Андрея Полозова“ (точное название — „Величие и падение Андрея Полозова“, 1931) и очень интересного очерка „Похороны“».
Я. Рыкачев был мастером психологического анализа. Его трудноопределимые по жанру произведения, составившие книгу «Сложный ход», были заметным явлением в литературе тридцатых годов. Тогда о Рыкачеве было написано больше, нежели он сам написал. Трудно сказать, чего бы он достиг, но им распорядился тридцать седьмой год. Пусть он отделается легко по сравнению с другими, что-то в нем сломалось. Он еще писал острые критические статьи, выпустил хороший сборник исторических повестей «Великое посольство», но сферой его была не беллетристика, даже не критика, а интеллектуальная проза. К сожалению, разум в литературе находил все меньше и меньше спроса. Но и сейчас встречаются люди, которые помнят его «непохожую» прозу.
Андрею Платонову эта столь далекая от его манеры литература была интересна, он был человеком в высшей степени «умственным».
Прежде чем говорить, о чем они беседовали, надо сказать, о чем они молчали: о политике, если обозначить этим изящным словом непродышливый кошмар нашей жизни. Это был молчаливый уговор всех порядочных людей, если их не связывала та исключительная степень доверия, которая проистекает из близкого родства, неразделимой общности судеб. Люди не хотели ставить друг друга в положение взаимной зависимости. А может полностью доверять Б. Но ведь и Б. наверняка имеет В., которому столь же безгранично доверяет. Тот, в свою очередь, исполнен доверия к В., а может, и к Г., и к Д. А у тех есть свои доверенные лица. И где-то в этой цепи вдруг окажется слабое звено. Не обязательно подлец, стукач, но и человек, которому сильно не повезло. И он расколется. Лента начинает раскручиваться назад, и ты с ужасом думаешь: неужели кристально честный А., которому ты доверял, как брату, ссучился?.. Тот, в свою очередь, думает это о тебе и о других невинных людях. Порой истина обнаруживалась, но вовсе не обязательно, а главное, от этого не становилось легче. Чтобы не было осадка страха от слишком доверительных и совершенно пустопорожних разговоров (всем и так все было ясно), люди легко и спокойно обходили запретные темы.
Строго говоря, все темы были запретны, если не обмениваться праздничными лозунгами, расхожей мудростью газетных передовиц, цитатами из трудов и выступлений недоучки-семинариста. Но на риск внеполитического разговора люди все же шли, чтобы не превратиться в мычащих скотов.
Вот темы частных разговоров Платонова и Рыкачева, свидетелем которых мне довелось быть: Фрейд и фрейдизм, Шпенглер и его нашумевший труд «Закат Европы», несчастный Вейнингер, убедивший самого себя исследованием «Пол и характер», что еврей не может быть гениален, и покончивший самоубийством; что такое «культура» и что такое «искусство». В каком-то смысле эти темы тоже находились под негласным запретом, ибо что тут обсуждать: Фрейд, Шпенглер и Вейнингер — буржуазные мракобесы, выродки и подонки, понятиям же «культура» и «искусство» даны исчерпывающие марксистские определения.
К сожалению, я не могу передать содержание этих разговоров, доходивших до меня фрагментарно. Могу свидетельствовать лишь о глубоком и в высшей мере сочувственном интересе А. Платонова к учению Фрейда, что легко вычитывается в «Чевенгуре», хотя имя венского ученого там, разумеется, не упомянуто. В отличие от Рыкачева он считал, что адлеровский примат самоутверждения (вместо фрейдовского секса) не противостоит фрейдизму, а дополняет его. Отчим не исповедовал «древнее» фрейдовское благочестие.
«Закат Европы» восхищал Платонова литературно, но по существу вызывал яростное противоборство. Он не верил в исчерпанность европейской цивилизации и вообще отвергал замкнутую в себе цикличность культурного процесса. По поводу Вейнингера помню я его фразу: «Бедный, бедный мальчик!», произносимую так тепло и сочувственно, будто юный и запутавшийся Вейнингер плакал в соседней комнате. Вообще я ни у кого не встречал такого интимного, кожей, ощущения культуры, как у Андрея Платонова.