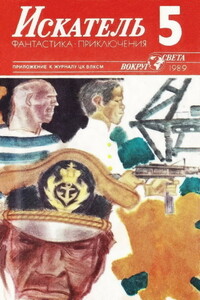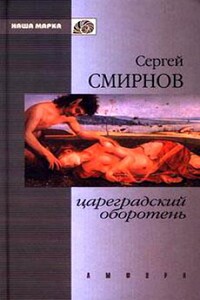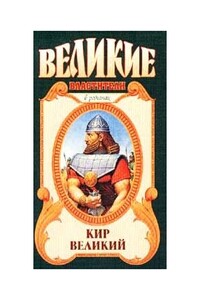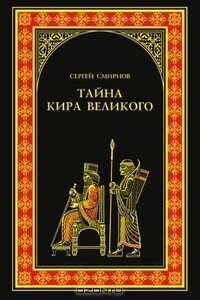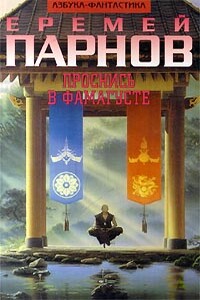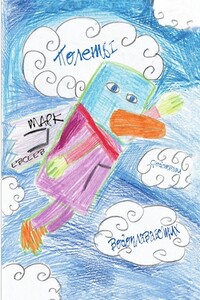Планета Земля — Харбин — апрель 1929 года от Рождества Христова
…лунным ликером залиты крыши Харбина, города-нигде, города моего последнего рандеву со смертью.
В такие ночи я научился, привык и полюбил гипнотизировать себя окном, воображая, будто сам, как и город-нигде, наполняюсь приятно удушливой неподвижностью полнолуния. Это не созерцание или буддийская нирвана, но лишь растворенное в лунном блеске предчувствие мига, когда душа вздрогнет — и я замечу, что опять помню все.
Агасфер! Я знаю твою тайну, неседеющий старик. Вечность дороги — не наказание. Наказание — эта приятное удушливая неподвижность памяти. Но ведь и ты — человек. И я не поверю никому из тех прохожих, кто, раз видев тебя, скажет потом: «С той самой поры, с той минуты, с того мимолетного проклятия он так и не стал труждающимся и обремененным». Я не поверю, пусть даже это неверие зачтется мне грехом. Твой круг тоже должен быть разорван в конце концов. Иначе ковчег отплывет пустым.
Итак, с улыбкой недоверия к чернилам, к перу, к бумаге, к своему одиночеству… я повинуюсь и начинаю путешествие, но — не с прекрасной детской памяти о потерянном рае, а с первого дня-никогда.
КРУГОВОРОТ ГУННОВ В ПРИРОДЕ
Планета Земля — Уссури — февраль 1920 года от Рождества Христова.
Россия — в пропасти. С высоты ангельского полета — там, внизу, среди сугробов, наши серые, грязные ручейки бегства, им — раствориться в безднах желтых морей. Вагонные окна мутны и тревожны, как наша дремота, лица нездешние, одинаковые, февраль, утро.
В остывающем, как труп, пульмане, семьи офицеров жмутся прочь от окон, дышат.
Я, затесавшихся к ним штатской тенью, смотрю на все как бы со стороны, будто подглядываю в вагон, и только клубы редкого тепла вносят меня внутрь.
Позади — дымный шлейф никчемной судьбы, еще не опавшая на землю полоса копоти, тускло дотлевающие на лету хлопья пепла.
Впереди — угол падения душевной окалины и более — ничего.
Позади — красные ночи, позади — судорожное спасение родителей, поезд в Рим, плач мамы, стучащий по рельсам прочь из России. Их сын на перроне: «Я вас нагоню, не тревожьтесь», и вслед за первой весточкой из Рима — расстрел брата, взятого в заложники под Звенигородом, кутерьма, штыки в лицо, пляшущие костры на улицах, булыжная эйфория каких-то неясных победителей и — АЗИЯ-Азия-азия, на которую не напасешься никакой этнографии, Азия бессмысленная, как и русский бунт.
Впереди перед глазами: очумелый, опухший саквояж генеральской дочки, а рядом она сама, примятый соболенок, глядит на меня и боится офицеров, все перевернулось. Она чувствует и сторонится обреченных, ведь обреченные назойливы и несдержанны. Её жалко, но не хочется сказать ей «мадемуазель», и это — усталость. И к генеральской дочке в придачу перед моими глазами от всей нашей русской цивилизации остается лишь пожилой, большой и громоздкий, но как-то весь целиком отсутствующий доктор права, от которого, то есть от права, остались только его, то есть доктора, пожухлые бакенбарды. Впереди…
Поезд, тем безвременьем, стоял на ледяных рельсах под станцией Спасское-Дальнее, и все мы в тонком, едва осознаваемом напряжении, ожидали рывка, стараясь поэтому лишний раз не подниматься и не цедить кипяток.
Слушки беспроволочными сквозняками протягивались по вагонам: пути завалены… нет, пути очищены… красные впереди… нет, красные позади… Одно и то же, отскочив от крайних вагонов, живо отражалось обратно в середину и снова разлеталось по концам состава. Так заполнялись тишина и безвременье до самого веского знака бытия — выстрела.
И был рывок без движения. Сквозь полупрозрачные подтеки оконной дремоты не только я увидел округлую гору, как муравейник закишевшую черными точками.