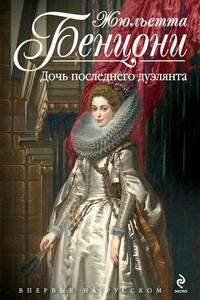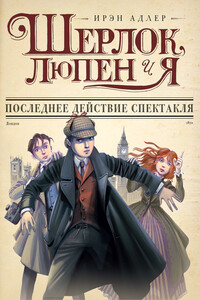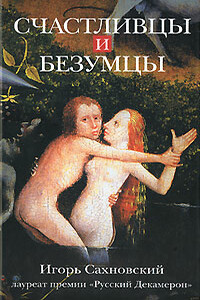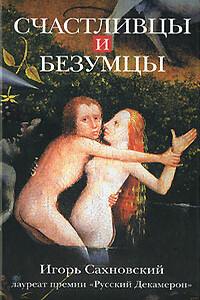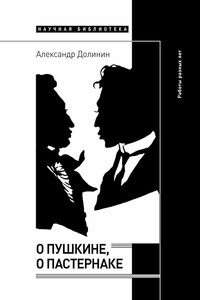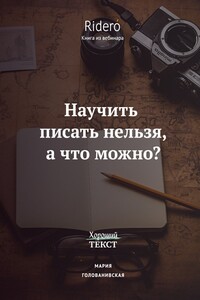Говоря о советской идеологии и о советском идеологическом поведении, можно констатировать одно: советскость имеет отношение к питанию. Советский человек вступает в отношение с питанием: он озабочен питанием, выполняет долг питания, испытывает вину перед питанием. Тем самым он имеет ни с чем не сравнимую ценность питания: советский человек — потребитель полного тела питания. Объектом потребления является питание как таковое — польза питания, необходимость питания, ценность питания, но поскольку потребление это и есть акт питания, объект дан потребителю непосредственно. Быт и забота обеспечивают ценностью, однако сферой потребления ценности является идеология: дискурсирующий идеолог имеет ценность в безотказном распоряжении, идеологический дискурс — особо эффективный способ пищевого поведения.
«Еда — штука хитрая», — философствует за обедом профессор Преображенский. Философия профессора Преображенского — философия за обедом, платоновская философия, симпозион. «Я без пропитания оставаться не могу», — заявляет кинический философ Шариков. Для одного еда — больше, чем еда: это идея; для другого потребность — больше, чем потребность: это принцип. Спор идет об идее еды и о принципе питания, но спорщики едят идею и питаются принципами: спор — это способ орального присвоения объекта спора; другого отношения к своему объекту идеология не знает. Для Бахтина любой диалог — это спор: любое произнесенное слово наполняет рот немой смысловой полнотой этого слова. Поэтому говорящие перехватывают слова друг у друга и поэтому говорить значит хватать ртом.
Согласно популярной марксистской схеме, чтобы добиться победы, пролетариат должен овладеть ресурсами победы: создать предпосылки, обеспечить условия, построить материальную базу. Питание с этой точки зрения является слабым звеном в системе ресурсов: с помощью питания можно усвоить любой другой ресурс, превратить полезный ресурс во внутренний ресурс. Главное оружие большевиков — хорошее пищеварение: «У нас крепкие желудки, мы твердокаменные марксисты. Мы переварим этих непоследовательных людей» [Ленин 1960: XII, 103]. Вместе с тем очевидно, что твердокаменное трудно переварить: «непримиримые речи большевиков перевариваются с большим трудом», — пишет Сталин о грузинских меньшевиках [Сталин 1949: II, 189], а плохо переваренный марксизм, как известно, является причиной отрыжки капитализма. Иначе говоря, большевики пересиливают желудком: замечание профессора Преображенского о том, что чтение газеты «Правда» связано с расстройствами пищеварения, соответствует тому, что пишет газета «Правда». Оно соответствует, по-видимому, и клиническим фактам. Согласно гипотезе Никола Авраама, причиной язвы желудка является ошибка интроекции: если символический объект нельзя метафорически усвоить и переварить, приходится его неметафорически проглотить.
Так или иначе, ресурсами необходимо запастись. Прежде всего необходимо хорошо питаться. Нельзя оставлять еду на тарелке, и если видимая пища съедена, то нужно доедать то, что осталось — Невидимое. В повести Сорокина «Лошадиный суп» Бурмистров при первой встрече с Ольгой делает заказ официанту: «Мне, пожалуйста, ничего». Позже он сам превращается в официанта: «Он зашел справа от Оли и стал осторожно наполнять ее тарелку»; но тарелка наполняется невидимым: «Видимой еды на тарелке становилось все меньше и меньше. Зато росла невидимая часть».
Но самое интересное происходит после гибели Бурмистрова: Ольга находит блюдо, из которого ее кормили невидимым, но это блюдо пусто — в нем нет Невидимого. Выясняется, что питаться невидимым можно только из рук Другого. Согласно Лакану, фантазм заполняет пустоту субъекта в Другом. Пищей желания Ольги было не то — «невыносимая неизвестность» желания Другого. После смерти Другого ее желание лишилось пищи.
Событие пропажи питания происходит в постсоветскую эпоху: Ольга потеряла способность питаться после ухода Большого Другого. Проблема в том, что Большой Другой — это тоже фантазм, заполняющий внутреннюю «ничтожность» субъекта, то есть компенсирующий дефицит питания, и если с помощью Большого Другого мы утоляем свой голод, значит Большой Другой — это большое блюдо Питания. Мы всегда живем после ухода Большого Другого, но это не мешает нам хорошо питаться. Тезис Сорокина не в том, что питание невозможно, а в том, что Невозможное — это ценный продукт питания: невозможное возможно в качестве объекта потребления.
Можно сравнить это с позицией Жижека: если возвышенный объект идеологии — пустое место, то и волноваться нечего: продолжайте наслаждаться идеологией, enjoy your symptom — с той разницей, что угощение Сорокина щедрее: он предлагает не наслаждаться несуществующим, а жрать небывалое: жрать мысли о вечности, жрать непостижимость грядущего, жрать нечеловеческую мощь до-минорной прелюдии Баха, или, продолжая этот ряд: жрать невыносимую невозможность желания Другого, жрать молчаливый голос Бытия, жрать неслыханную разницу Письма. Жрать именно потому, что небывалое недоступно для питания: Небывалое — самый крупный кусок Питания.