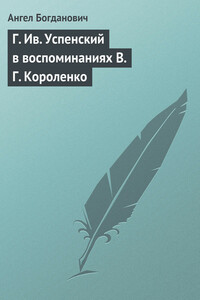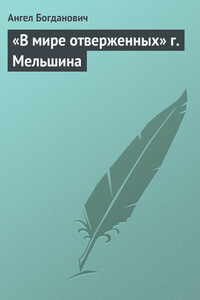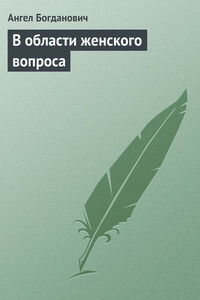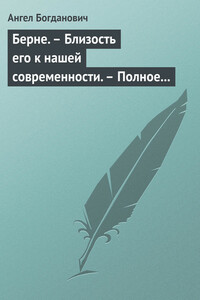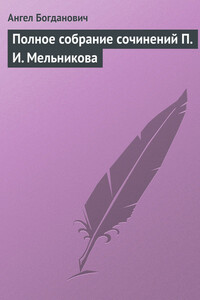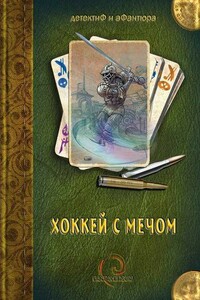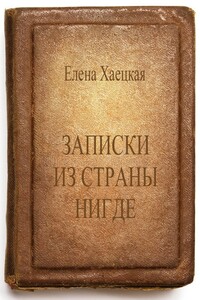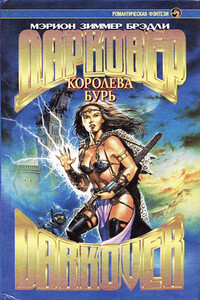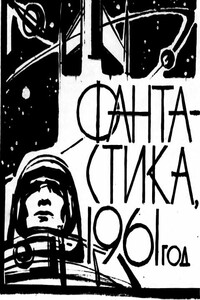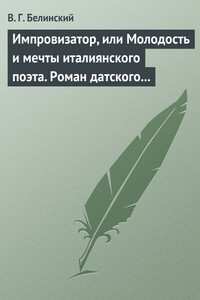Изъ числа писателей – народниковъ, выступившихъ цѣлымъ гнѣздомъ въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, одинъ Глѣбъ Успенскій не только не затерялся въ "дали временъ", какъ почти всѣ его современники и сверстники, но сохранилъ неувядающую свѣжесть интереса и громадное значеніе, какъ бытописатель русской жизни. Стоитъ взять его произведеніе, что такъ часто приходится дѣлать нашему брату журналисту для справки, для цитаты, и уже не можешь оторваться отъ его нерѣдко геніальныхъ по яркости и жизненности страницъ. Увлекшись чтеніемъ, забываешь и о справкѣ и просто наслаждаешься его чуднымъ языкомъ, этимъ истинно-русскимъ, яркимъ и образнымъ языкомъ, его художественнымъ умѣніемъ творить жизнь, изъ незначительной, пустой сценки возсоздать такую подавляющую подчасъ картину человѣческой скорби или несчастья, что, потрясенный до глубины души, откладываешь книгу, чтобы передохнуть отъ его мучительной правды. Его, какъ и другихъ великихъ нашихъ писателей, нельзя читать "сплошь", что называется: онъ до того волнуетъ, захватываетъ и заставляетъ вдумываться, что приходится то и дѣло откладывать книгу, чтобы овладѣть впечатлѣніемъ и получше охватить всю глубину нарисованнаго образа. И когда, желая дать себѣ отчетъ, начинаешь вспоминать, что именно у него ярче всего, что законченѣе и цѣльнѣе встаетъ такая масса этихъ образовъ, такое разнообразіе "лицъ, нарѣчій, состояній", что невольно чувствуешь себя подавленнымъ громадностью захвата этого удивительнаго русскаго писателя, великаго знатока русской жизни и по истинѣ геніальнаго художника, по той проникновенности, съ которой онъ рисуетъ душу мужика, рабочаго, интеллигента, солдата и всякаго живого человѣка, въ данную минуту привлекшаго его вниманіе. Кого здѣсь только нѣтъ? Порфиричъ, Ершишка, Хрипуновъ, Михаилъ Иванычъ, Кудимычъ, Мымрецовъ, Тяпушкинъ, чиновникъ ("Задача"), "вольный казакъ", Иванъ Босыхъ, Иванъ Ермолаичъ, Варвара, спившійся дьяконъ, безконечная вереница разныхъ дѣльцовъ и дѣятелей, вплоть до того русскаго мужика, что силою однихъ "природныхъ дарованій" сразу, въ одинъ присѣстъ, производить цѣнность въ сто рублей, и… Аракчеевъ. Да, и этотъ послѣдній, и такъ выписанный, что вы можете прочесть всего Шильдера, Богдановича, сколько угодно копаться въ "Русской Старинѣ" и все же не получите такого яркаго и цѣльнаго впечатлѣнія, какъ отъ нѣсколькихъ строкъ Глѣба Ивановича. "Страху имѣлъ въ себѣ,– разсказываетъ старый бурмистръ. – Столь много было въ немъ, значитъ, испугу этого самаго. Носъ у него, у покойника, былъ этакій мясистый, толстый, сизый, значитъ, съ сизиной. И гнусавый былъ, гнусилъ… Идетъ ли, ѣдетъ ли, все будто мертвый, потому глаза у него были тусклые и такъ сказывали, какъ, примѣромъ сказать, гнилыя мѣста вотъ на яблокахъ бываютъ: будто глядитъ, а будто нѣтъ, будто есть глаза, а будто только гнилыя ямы. Вотъ въ этакомъ то видѣ – ѣдетъ ли, идетъ ли – точно мертвецъ холодный, и носъ этотъ самый сизый, мясистый, виситъ. А чуть раскрылъ ротъ – и загудитъ. точно изъ подъ земли или изъ могилы: "Па-а-л-локъ!" Да въ носъ, гнусавый былъ… "Па-а-л-локъ!" Это ужъ, стало быть, что-нибудь запримѣтилъ… И только его и словъ было, а то все какъ мертвый… Вотъ какой былъ сурьезный, дьяволъ!" Цѣльность впечатлѣнія отъ этого несравненнаго образа, такъ, мимоходомъ начертаннаго Глѣбомъ Ивановичемъ, еще усиливается тѣмъ, что разсказчикъ (въ очеркѣ "старый бурмистръ") весь на сторонѣ Аракчеева ("такъ… былъ порядокъ").
Такими безподобными перлами переполнены три увѣсистыхъ тома компактнаго изданія твореній Успенскаго. И среди безконечнаго разнообразія этихъ образовъ, то подавляющихъ васъ, то трогательныхъ до слезъ, то возбуждающихъ самое неудержимое дѣтское веселье, все время не покидаетъ васъ образъ самого творца, всегда грустный, словно трепещущій отъ удивленія и скорби при видѣ того, что творится вокругъ него, или словно недоумѣвающій, какъ же это никто, кромѣ него, не видитъ, не пугается всего безобразія жизни, не замѣчаетъ, какъ далеко-далеко уклонилась эта жизнь отъ красоты настоящаго человѣка? Потому что самъ онъ, Глѣбъ Ивановичъ, переполненъ трепетнымъ восторгомъ передъ этой чарующей красотой истиннаго человѣка и потому такъ до болѣзненности чутокъ ко всякимъ уклоненіямъ, уродующимъ "образъ и подобіе божье". Изъ этой чуткости и восторга передъ человѣческой красотой, передъ красотой природы и жизни вообще проистекаетъ и дѣтская незлобивость Глѣба Ивановича, съ которой онъ относится ко всѣмъ и всему. Гнѣвъ, суровое осужденіе, безпощадная жесткость къ описываемымъ имъ звѣроподобнымъ чудищамъ, къ образамъ почти апокалипсическаго характера, какъ приведенный выше Аракчеевскій портретъ, – чужды ему вполнѣ. Онъ и за нихъ страдаетъ, какъ и за тѣхъ, кто пострадалъ отъ нихъ. Онъ и въ ихъ искаженныхъ злобою лицахъ видитъ черты, сближающія ихъ съ общечеловѣческой красотой, которая въ этихъ несчастныхъ превратилась въ свою противоположность. Ему пожалуй, еще больнѣе при видѣ ихъ, чѣмъ при видѣ ихъ жертвъ, потому что страданіе приближаетъ къ красотѣ, очищаетъ и возвышаетъ, тогда какъ дикое безобразіе палачей выступаетъ на фонѣ общаго страданія еще ярче и гнуснѣе, до жгучей боли ранитъ сердце писателя. Самому предателю, котораго такъ безпощадно казнитъ Салтыковъ, Успенскій не смогъ бы сказать роковое: "иди! нѣтъ тебѣ прощенія!" Самое большее – онъ молча отвернулся бы отъ него. "И его тоже мать родила", какъ говоритъ у Достоевскаго каторжникъ, указывая на закованный трупъ своего товарища.