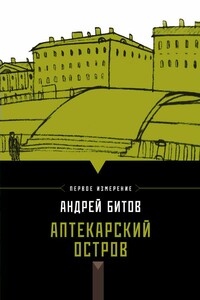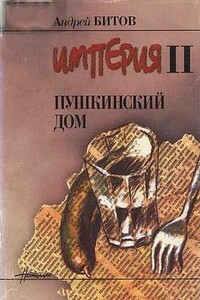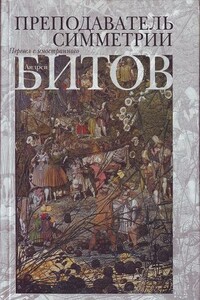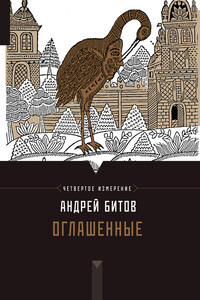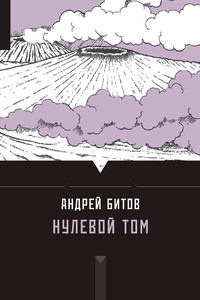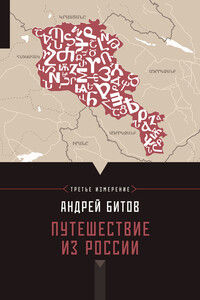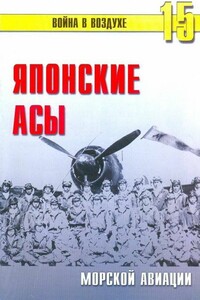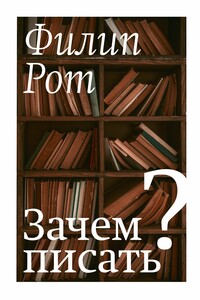Где-то затерялся набросок – такая сценка – разговор графомана с гением.
Оба взяли рюмки и рассуждают на тему – ты как пишешь? На машинке? От руки? А на какой бумаге? Какой ручкой? Обсуждают перспективы. Получается, что оба друг другом совершенно довольны, потому что этот разговор их совершенно выравнивает.
Разговор о том, как мы пишем, выравнивает любых.
Но есть все-таки разница между тем, когда пишешь рукой и пишешь гусиным пером. Или пером металлическим. Вечным.
Каков был переход?
…Вспоминаю, как в старой моей школе шла борьба перьев. Перо должно было быть с нажимом – когда прописям нас учили. А переход на шариковую ручку был равносилен вредительству, и к нам применялись карательные меры. А ты попробуй еще достань ее, эту ручку! В то время это было способом выделиться.
Перо макать – значит меньше курить за письменным столом. Обмакнул – кляксу стряхнул.
Промокашки специальные делали…
Помню я, и как случился со мной принципиальный переход: тогда еще пишущие машинки были не в частоте, я сначала писал от руки, потом правил по писанному, потом перепечатывал, правил по напечатанному, потом отдавал машинистке. Поскольку возможностей опубликоваться было мало, от машинистки я и получал свой первый опубликованный текст. Он был напечатан по нормам, сдаваемым в типографию. Тогда я мог его прочесть и понять свое отношение по крайней мере к этому опусу.
Насколько виден текст.
Внутренний текст, написанный текст, напечатанный – вот это и есть технология «перевода».
И однажды, когда я сел в момент какого-то затора перебелить неоконченный рассказ и начало уже перестучал на машинке, у меня включилось дыхание и я не заметил, как достучал этот рассказ на машинке до конца. Не прописывая от руки.
Это был переход невероятный! Просто революция. Для меня это была революция 1961 года. Может быть, равнозначная тому, что Гутенберг придумал печатать книги тиражами… Править пришлось гораздо меньше, и напряжение было гораздо больше: на машинке неудобно вычеркивать – надо забивать буквой Х… Из-за этого напряжение создания текста возникает более-менее сразу и дыхание не исступленное. И период, в который попадал, – из него тоже надо выпутаться: сразу удлинилась фраза.
Дальше я все писал на машинку. Потом возник компьютер, а я уже сильно взрослый. Учиться работать на нем стал в 1992 году. Но никуда не продвинулся и решил на нем печатать, как на машинке.
С компьютером – другие соблазны: например, соблазн поправить текст сразу, целиком. То есть исчезают все черновые слои, пропадают навсегда. Можно и не тщеславиться, что ты там Гоголь или Пушкин! Но все равно: а вдруг какой-то слой был предпочтительнее по дыханию?
Довольно трудно привыкать: я уже научился думать страницей, вставляя лист в пишущую машинку, когда шло дело. А тут лист никак не кончается…
Хотя до этого у меня тоже была технологическая мечта – вставить в машинку рулон бумаги целиком, чтобы шел поток и ты бы его не прерывал.
Но довольно быстро этот рулон у меня запутался, и я понял, что нужен еще карлик, чтобы он перематывал рулон внизу.
Этот невидимый рулон – приводит к идее непрерывного текста, который существует в человеке вместе с его бытием и сознанием. По этой линии развивалось много попыток – во всяком случае, в прозе.
В то же время есть какая-то непрерывистость: если ты человек пишущий, ты проживаешь свою жизнь вместе со своим текстом. Ты течешь через текст. У меня даже целый ряд статей прошел: смерть как текст, поведение как текст…
Уже много позже я пришел к идее о врожденности текста и стал работать над собой и другими авторами, включая – высшие силы, да простят меня – Пушкина. Я считал, что необходимо издать Пушкина чисто хронологически. Чтобы увидеть сам процесс.
Этим и занимаюсь – расколачиваю тома, которые у нас формировались по жанрам. Пушкин ведь по жанрам очень хорошо пакуется! По законченности, по неоконченности… А вот когда это все равномерно и равноправно…
Для него, думаю, это было немаловажно. И для меня многое становилось ясно.
В 1999 году удалось осуществить проект издать полный свод пушкинских текстов за последний год его жизни – «Предположение жить. 1836».
Думаю, это – довольно верный принцип. Набокова я тоже рассматривал из этой перспективы. Бывает так, что в творчестве есть какая-то гора вулканическая – с подъемом, со спуском. В начале не хуже, но где-то есть вершина и спад, на который проецируется начало. У Набокова так проецируются русский и американский периоды. Но так же точно проецируется и возраст.
Везде – большие системы подобий.
Хотя не нужно преувеличивать значение текста: неизвестно, что вперед чего. Особенно у пишущего. Текст часто съедает его жизнь. Ведь потому – литература, что она подобна жизни, а не потому, что отражает ее. Вы попадаете в процесс, который переживает автор в процессе письма, который подобен переживанию жизни. Чтение – это со-чтение, со-чувствие.
Но когда я перешел на машинку, я стал гораздо дисциплинированней, гораздо строже – появилась какая-то жесткость, металличность, созвучная стуку машинки. И вот сейчас, у компьютера, я думаю: а не перейти ли снова на пишущую машинку, чтобы слышать этот стук по-настоящему?