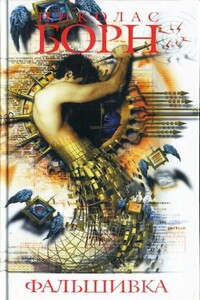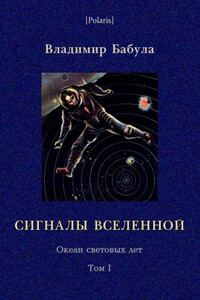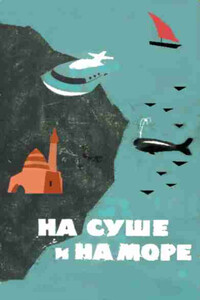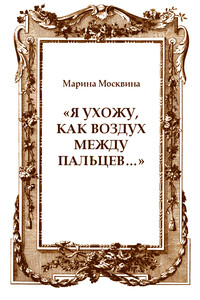К утру вся влага стала льдом. Все текучее, серое, зыбкое оцепенело от шока; холод и лед. Почва снова держит. Любители вставать ни свет ни заря самоутверждаются на свежем воздухе, под ногами хрустит замерзшая снежная каша, на перекрестке застряла снегоуборочная машина, мотор воет. Все вокруг, казалось, воспрянуло духом, словно после отмены каких-то суровых законов. И краски вернулись, и домашнее тепло тем отрадней, что скоро пора на улицу.
Лашен сварил кофе покрепче и сидел за столом, подпирая руками голову. За полуоткрытой дверью спальни пиликала музыка. Проснувшись, он, несмотря на холод, сразу почувствовал запах отсыревших обоев и старого тряпья; здесь, в квартире, ни к чему не хотелось прикасаться, скоро он уйдет отсюда, уедет; собственно, осталось совсем мало времени. Он с опаской вошел в ванную и заметил тонкий слой давнишней пыли на полочке, где между флаконов и тюбиков валялись шпильки и заколки, и еще фотография Греты, простая, на паспорт, сделанная в уличном автомате. В обеих комнатах и в коридоре она бросила газеты, должно быть, бегло просмотрев. Действует на нервы, надо будет сказать ей, потом, когда он вернется. Но в ту же минуту остро почувствовал робость и бережный страх, – словно боясь разбудить детей и Грету, бесшумно крадешься по темному дому, подумал он. Мысли невесомо легки, и кружится голова.
Эту квартиру в Гамбурге они сняли три года назад, вскоре после рождения Эльзы, когда переселились в загородный дом. Бывшая привратницкая в бельэтаже, но в боковом крыле, со своей входной дверью. Фасад и лестница чопорно солидные, на решетчатой двери лифта бронзовые завитушки. И сам он, и Грета не любили ночевать у друзей, когда бывали в Гамбурге, а снимать квартиру все же дешевле, чем жить в гостинице.
Он ведь звонил Грете за город. Она сказала, что Верена уже ушла с детьми в детский сад. А он что сказал? Что рад возвращению домой. «Серьезно, Грета. Прошу тебя, давай забудем весь этот вчерашний спектакль. Постарайся забыть. Пойми, мне с тобой трудно, но на самом деле это мои проблемы с самим собой. В общем, так вот…» Она внимательно выслушала, долго молчала, потом спросила: «Хорошо, а как быть с моими проблемами? У меня, видишь ли, тоже есть проблемы». – «Да-да, извини», – он испугался. На столе лежало письмо от владельцев верфи, старое письмо, еще в октябре пришло, в нем сообщалось, что уволенные рабочие не являются членами трудового коллектива и потому администрация впредь не разрешает Грете фотографировать их на территории верфи.
В утренних известиях – ничего нового о событиях на Ближнем Востоке. Хофман уже едет, скоро будет здесь. Грета раньше без конца фотографировала безработных докеров. У них в квартирах. Хмурые лица, поджатые губы. Или на бирже труда, в кафе, на профсоюзных собраниях.
Ночь он провел с Анной – подругой Хофмана. Сидели в пивной, она жаловалась на Хофмана, мол, вечно находит в ней недостатки, сравнивая ее со своей бывшей женой, а жена его активистка женского движения и вместе с какой-то редакторшей пишет киносценарии о проблемах эмансипации. И он неодобрительно отозвался об этой манере Хофмана, но странно, в его собственном отношении к Анне тотчас появилось что-то вроде пренебрежения. Она сказала, что хочет разъехаться с Хофманом.
В постели они долго не засыпали, лежали, прижавшись друг к другу, и постепенно он избавился от мыслей о Хофмане. Удивила совершенно неожиданная нежность к Анне, лишь раз он с силой дернул ее за волосы, притянув к себе, и у нее вырвался глухой гортанный стон. Потом вдруг проснулся, – что-то зазвенело, разбилось. Подумал, Анна встала, мало ли зачем, но сквозь занавески уже пробивался голубоватый свет. Она что-то разбила в ванной, наверное один из флаконов Греты. Анна заглянула в полуоткрытую дверь и, увидев, что он не спит, извинилась. Он закрыл глаза, услышав, что Анна подметает осколки. Когда она присела на край постели, уже в пальто, он почувствовал смутную благодарность, и еще показалось, ночь с нею словно начисто стерта каким-то сновидением. Но нет, он ничего не хотел забывать. Спросил, скажет ли Хофману, она ответила – нет.
Хофман позвонил в дверь ровно в восемь сорок пять. На улице ждало такси, фары горят, мотор не выключен, водитель протирает стекла. Хофман ходил взад-вперед возле крыльца с видом триумфатора, вдруг усомнившегося в своей победе, дышал на пальцы.
В машине Хофман молчал. Они уже много раз ездили вместе (Лашен хорошо помнил свой первый репортаж о. «событиях в Чехословакии» – вводе в страну иностранных войск, фотографировал тогда тоже Хофман), но могучая физическая сила и неколебимая уверенность Хофмана по-прежнему таили словно некую угрозу, во всяком случае так казалось. Впрочем, чувство неловкости, похожее на зуд, возникавшее, когда он работал вместе с Хофманом, уже стало привычным. В поездках оба старались поменьше мозолить глаза друг другу. Он не мог избавиться от ощущения, что Хофман считает его тексты никчемным, но, увы, неизбежным приложением к своим фотографиям. Иногда он воображал, что у Хофмана тело дикого вепря, мускулистое, все в шерсти, вот только руки подгуляли, несуразно тонкие, лицо же хмурое, высокомерное, весил он килограммов сто, не меньше, но в южных городах ходил по залитым светом и жаром площадям легко, не потея.