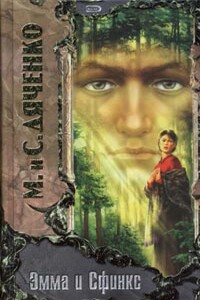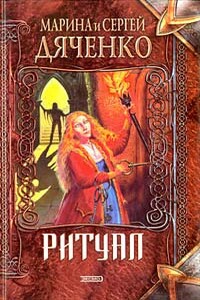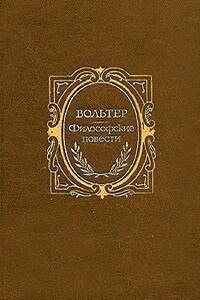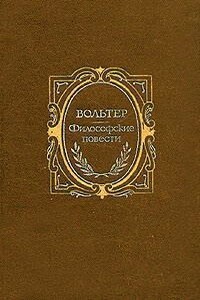В лесополосе пахло осенью. До наступления вечности оставалось не более получаса.
Мальчик вытащил из кармана перочинный ножик, взял на изготовку длинную удобную палку и принялся разворачивать траву и прелые листья в наиболее подозрительных местах. Он любил искать грибы. Это было похоже на рыбалку, почти так же интересно. Здесь водятся маслята и подосиновики, а трухлявые сыроежки — ну их на фиг…
Прошло полчаса, а может час, а может и все два; солнце висело еще высоко, у мальчика заболела шея — все время смотреть вниз. Он выпрямился — и увидел впереди, в нескольких шагах, поваленное дерево. Он не помнил, чтобы здесь росли такие деревья. Не замечал раньше. Оно было старше лесополосы, старше дороги, старше, наверное, всего их поселка. Оно было огромное. И теперь лежало на боку, наставив на мальчика круглый и светлый срез. Мальчик подошел. Пень был размером со столик. Срез лежащего ствола доходил мальчику до пояса. Древесина оказалась совсем сырой, дерево спилили недавно и очень аккуратно. Будто масло ножиком, подумал мальчик. И на пне, и на срезанном стволе четко видны были годичные кольца. Мальчику сразу же захотелось узнать, сколько их; он начал считать — и сбился, начал снова — и сбился опять. Колец было не меньше ста, а может, и больше.
Мальчик опустился на край огромного пня и подумал: целый год с каникулами, зимними и весенними, с Дедом Морозом, с долгим летом помещается в одном кольце. Отсчитать десять колец — и получится вся его жизнь. Странно. Он провел ладонью, чуть касаясь пня. От середины, где кольца почти сливались, к краю. Дерево жило сто лет, подумал мальчик. А теперь я вижу, как оно жило. Каждую его минуту. А кто его срезал?
Солнце скрылось за облачком. Мальчику вдруг показалось, будто все вокруг изменилось. Сделалось очень тихо; секунду назад шелестели ветки и перекликались птицы, а сейчас — как в пустом доме, как на контрольной. Он вовсе не был трусом. Но страх пришел, воткнулся в кожу сотнями иголочек, приподнял коротко стриженые волосы на макушке. Следовало оглянуться. Убедиться, что никто не смотрит в затылок. Что никто не прячется за поваленным стволом. Он знал, что надо оглянуться, — и не мог. Не поворачивалась шея. И чем дольше он сидел, обмерев, на широком пне, тем яснее ему становилось, что за спиной у него кто-то (что-то?) есть. Почему, ведь он всегда верил, что все плохое в жизни случится не с ним?! Почему же это случается? Уже почти случилось?
Никогда прежде на него не наваливалась такая мутная, такая непонятная паника. Остатками разума он понимал, что причины нет, что в лесу он один… Наверное.
Все, что он успел сделать — заорать и сорваться, опрокидывая корзинку, с места. И кинуться сквозь лес с истошным воплем «Мама!».
Второго ноября Эмме Петровне исполнилось тридцать пять лет.
Отмечали в театре. Эмма принесла большую сумку с бутербродами, купила в соседнем магазине положенное количество вина, водки и одноразовых стаканчиков. После дневного спектакля («Лесные приключения», сказка для дошкольников) в большой гримерке накрыли стол. Все было в высшей степени пристойно и даже очень мило. Пока Эмма переодевалась, пока смывала заячий нос, губу и тонкие усики, завтруппой уже успела разложить бутерброды и нарезать торт. Потом пришли гости — все, кто был занят сегодня днем, а с ними старенькая костюмерша и помреж. Говорили тосты, желали здоровья, называли человеком верным, добросовестным, честным, добрым и вообще хорошим. Подарили фарфоровую вазу. Принесли букет ноябрьских — мелких, но очень душистых — астр. Всё сказали, съели и выпили примерно за час с четвертью, а потом девочки, соседки по гримерке, помогли Эмме собрать посуду и пустые бутылки обратно в сумку.
Быстро смеркалось. В пять часов за окном было почти совсем темно; те, кто был занят в вечернем спектакле, еще не пришли, прочие разошлись по домам. Эмма осталась в гримерке одна.
Это была давняя привычка. Она всегда уходила позже всех. В школе. В институте. В театре. Медленно собираясь, повторяя роль, еще раз проигрывая про себя, верша своеобразный ритуал, жертвуя Любимому Делу дополнительный час, или полтора часа, или хоть тридцать минут. И сегодня она задержалась скорее по привычке, нежели из надобности. Аккуратно сложила в стол коробку с гримом, пачку лигнина, мыльницу, полотенце и крем. Застегнула пальто, повязала шарф, взяла сумку и вышла в полутьму коридора. Попрощалась с дежурной на входе.
Воздух был холоднее, чем утром. С неба валились последние листья — самые стойкие, самые желтые. Налипали на мокрый асфальт. В черных лужах отражались редкие яркие звезды и тусклые ноябрьские фонари. Неподалеку от служебного входа рос большой каштан. На одной из его голых веток сохранилось засохшее соцветие — майская «свечка». Почему-то этим цветам не дано было стать плодами, обрасти колючими шариками каштанов и упасть в сентябре на асфальт. Для белой пирамидки по сей день продолжался май; правда, цветы засохли и сморщились, однако даже скелет соцветия выглядел вызывающе, оставшись один на голой-голой ветке. Эмма отвела взгляд от припозднившейся «свечки». Выгрузила в урну пластиковый пакет с мусором. Поправила шарф.