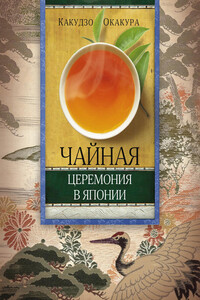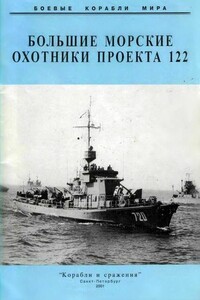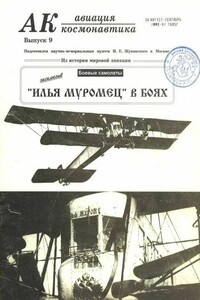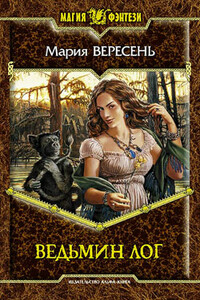Когда сто лет назад японский искусствовед и критик профессор Окакуро Какузо писал свое эссе о чае, он меньше всего был озабочен тем, какими рецептами удивить англоязычного читателя. Поэтому в его книге не найти ровным счетом ни одного рецепта заваривания чая. Он также не описал подробности чайной церемонии и не перевел поэтов и прозаиков, писавших о чае, а только лишь привел отдельные цитаты из японской поэзии. Не рассказал он ни о чайных плантациях Японии, ни о методах обработки чая, ни о... «Позвольте, – готов уже, наверное, вопросить раздосадованный читатель, – о чем же тогда его книга?»
Книга, безусловно, оправдывает свое название – она о чае. Но повествует она о глубинном культурном влиянии чая на философию и мировоззрение народов Востока. О том, как потребление чая создало азиатскую культуру, отличную от европейской. И все же автор показывает, как через чай произошло сближение этих двух величайших цивилизаций.
«Книга о чае», написанная Какузо в начале ХХ столетия и опубликованная в 1906 году, переиздавалась много раз. В ней автор впервые выдвинул такое философское учение, как тиизм, показав, как чай воздействовал почти на каждый аспект культуры, мыслей и образа жизни японцев.
Хотя Какузо был рожден и воспитан в японской семье, но с раннего детства он учился говорить по-английски. Всю свою жизнь он стремился донести до западного общества образ мыслей и действий людей Востока. Поэтому в книге, адресованной западным читателям, Какузо прежде всего объясняет главные постулаты учений дзен-буддизма и дaoсизма, а также аспекты роли чая в японской повседневной жизни. Какузо показывает, насколько выгодно отличается от западного вычурного искусства простота восточного искусства, навеянная чаем.
Окакуро Теншин (впоследствии известный как Окакуро Какузо) родился 14 февраля 1863 года в Фукуи и всю свою жизнь посвятил делу пропаганды японского искусства. Однако сегодня вне Японии его в основном помнят как автора «Книги о чае».
Переехав с родителями в Йокохаму, где он окончил школу, Окакуро поступил в Токийский императорский университет. В 1890 году он стал одним из основателей Японской академии искусств, а через год – ее главой, которую позже был вынужден покинуть в результате интриг. В 1904 году Окакуро был приглашен в Бостонский музей искусств (США), где в 1910 году он возглавил Азиатский художественный отдел.
Окакуро Какузо был высокообразованным специалистом. Он исследовал традиционное искусство Японии, путешествовал по Китаю, Индии, Европе и США. Все свои основные работы он писал по-английски, показывая западному миру образ Японии как непосредственного носителя идеалов и культуры Дальнего Востока.
В книге «Идеалы Востока» (1904), изданной накануне Русско-японской войны, Окакуро говорит о единодушии народов Азии в своем восприятии оскорбления, нанесенного Западом, который колонизировал ее и стал виновником ее отставания в области индустрии. Это было ранним выражением паназиатской политической линии. Позже Окакуро был вынужден возражать против попыток Японии догнать Запад в индустриальном отношении в ущерб другим азиатским странам.
Какузо скончался 2 сентября 1913 года, прожив чуть более пятидесяти лет. Его творчество имело воздействие на ряд важных фигур мировой культуры, в числе которых немецкий философ Мартин Хайдеггер, американский поэт Эзра Лумис Паунд, индийский писатель Рабиндранат Тагор и американский деятель искусств Изабелла Стюарт Гарднер (последние двое были близкими друзьями Какузо).
В течение последнего столетия Восток доказал свою экономическую, политическую, индустриальную и культурную независимость и значимость. В наше время новинки высоких технологий в большой степени идут именно оттуда. Но многие тайны и загадочная притягательность Востока сохранились. И чай остается для Запада одной из тех загадок, которые Восток не до конца ему раскрыл.
Многие тайны раскроются читателю в первой части данной книги, где опубликован перевод «Книги о чае» Окакуро Какузо. Во второй части вы узнаете о влиянии чая на организм человека, о его свойствах (кстати, не только полезных), о чайных рецептах, а также о чайных церемониях и связанных с ними атрибутах.