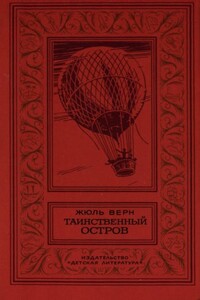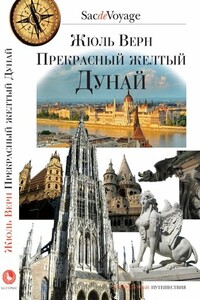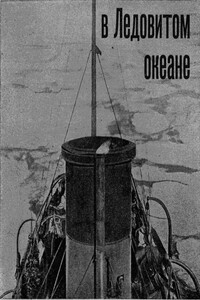Жюль Верн
Двадцать четыре минуты на воздушном шаре
Дорогой месье Жёне!
Вот несколько замечаний, которые Вы попросили меня сделать о полете «Метеора».
Вы знаете, при каких обстоятельствах должен был произойти подъем: шар относительно мал, вместимость его всего девятьсот кубических метров, весит он вместе с корзиной и такелажем двести семьдесят килограммов, наполняется газом, великолепно подходит для освещения, но именно поэтому имеет среднюю подъемную силу. Шар должен был взять четырех человек: воздухоплавателя Эжена Годара и трех пассажиров: месье Деберли, адвоката, месье Мерсона, лейтенанта 14-го линейного полка, и меня.
Но перед самым стартом оказалось, что всех поднять невозможно. Поскольку месье Мерсон уже поднимался на аэростате в Нанте, и тоже с Годаром, он согласился — но чего это ему стоило! — уступить свое место месье Деберли, совершавшему, как и я, свою первую воздушную экскурсию. Уже раздалось традиционное «Отпускай!», и мы были готовы покинуть землю…
Но мы не учли сына Эжена Годара, бесстрашного девятилетнего сорванца, неожиданно вскарабкавшегося в корзину; из-за него нам пришлось выбросить два балластных мешка из четырех. Осталось всего два! Никогда еще Эжен Годар не взлетал в таких условиях. Поэтому на продолжительный полет рассчитывать не приходилось.
Мы начали подъем в пять часов двадцать четыре минуты. Шар взлетал медленно, по наклонной траектории. Ветер нес нас на юго-восток, а небо было несказанно чистое. Только на горизонте застыли грозовые облака. Обезьянку Жака отец выбросил на парашюте за борт. Это позволило нам подниматься быстрее, и в пять часов двадцать восемь минут мы, согласно показаниям барометра-анероида, уже парили на высоте восьмисот метров.
Город с такой высоты смотрелся великолепно. Площадь Лонгвиль напоминала муравейник, населенный черными и рыжими муравьями — людьми, одетыми в штатское платье и военные мундиры. Шпиль кафедрального собора понемногу уходил вниз, указывая наподобие стрелки высоту нашего подъема.
В корзине воздушного шара не ощущалось движения ни в горизонтальном, ни в вертикальном направлении. Поэтому казалось, что горизонт постоянно находится на одной и той же высоте. Только его радиус все увеличивался, и земля под корзиной уходила вниз, как в воронку. В то же время воздух был совершенно спокоен и стояла абсолютная тишина, нарушаемая только скрипом ивовой корзины, в которой мы находились.
В пять часов тридцать две минуты из-за туч, закрывавших западный край неба, пробился солнечный луч и начал подогревать оболочку; заполнявший ее газ расширился, и мы, не сбрасывая балласта, оказались на высоте 1200 м, максимальной за всё время нашего путешествия.
И вот что я оттуда увидел. Прямо под нами оставался Сент-Ашёль со своим чернеющим парком, сжавшимся так, словно я смотрел на него в перевернутый бинокль. Кафедральный собор будто приплюснуло к земле, и его шпиль потерялся среди городских зданий. Сомма вилась тонкой светлой лентой, железные дороги напоминали линии, прочерченные рейсфедером. Улицы казались спутанными шнурками, фруктовые сады походили на обычный развал зеленщика, поля представали разноцветными лоскутками, вроде тех, что в давние времена портные вывешивали у своих дверей. Амьен превратился в скопление сероватых кубиков, напоминающих вывалившиеся из перевернутого ящика нюрнбергские игрушки[1]. А дальше, словно кучи щебенки, разбросанные для укладки покрытия исполинской дороги, располагались окрестные деревушки; Сен-Фюсьен, Виллер-Бретоннё[2], Ла-Нёвиль, Буайе, Камон, Лонго.
В это мгновение внутренность аэростата осветилась. Я посмотрел через нижний аппендикс[3], который Эжен Годар всегда держал открытым. Яркий свет позволял различать чередующиеся желтые и коричневые боковые поверхности «Метеора». Ничто не выдавало присутствия газа — ни цвет, ни залах.
Тем временем мы начали спускаться, потому что шар потяжелел. Чтобы удержаться на набранной высоте, надо было сбросить балласт. Тысячи рекламных листовок, выкинутые за борт, показали, что воздушное течение, проходящее под нами, более сильное. Нас несло на деревню Лонго, перед которой раскинулись болотистые ложбины.
— Мы что же, сядем в болото? — спросил я Эжена Годара.
— Нет, — ответил он. — Но, поскольку балласта у нас больше нет, придется выбросить мой саквояж. Нам надо обязательно перелететь через болото.
Мы продолжали падать. В пять часов сорок три минуты в пятистах метрах от земли нас подхватил сильный порыв ветра. Мы пронеслись над фабричной трубой, притянувшей наши взоры. Воздушный шар, словно мираж, отражался в многочисленных болотцах. Человеческий муравейник разрастался, а на дорогах была заметна суета. Но вот показалась маленькая лужайка между двумя железнодорожными колеями, как раз перед станцией.
— Ну? — спросил я.
— Ну? Мы перелетим через железную дорогу и через деревню, что виднеется за нею! — ответил Эжен Годар.
Ветер крепчал. Мы видели это по раскачивающимся кронам деревьев. Ла-Нёвиль осталась позади. Перед нами расстилалась равнина. Годар бросил стопятидесятиметровую веревку — гайдроп[4], потом якорь. В пять часов сорок семь минут якорь стукнулся о землю. Потом открылся клапан. Подбежали несколько услужливых зевак, схватились за гайдроп, и мы мягко, без какого-либо толчка коснулись земли. Воздушный шар сел словно большая и полная сил птица, а не как дичь с подбитым дробью крылом.