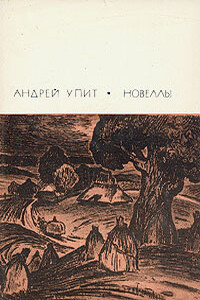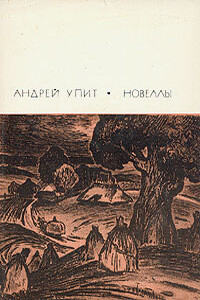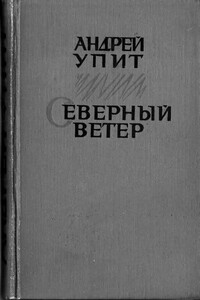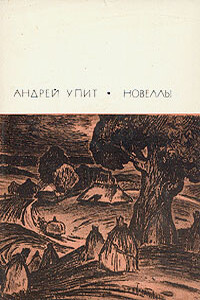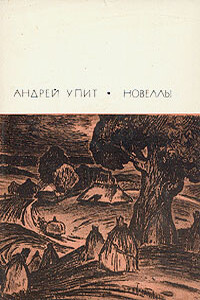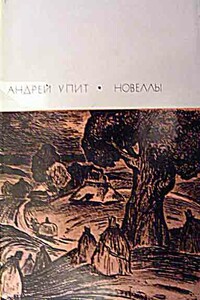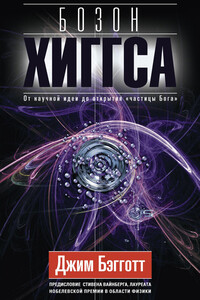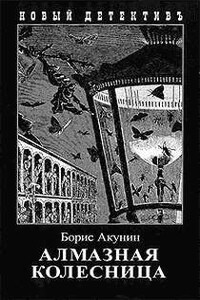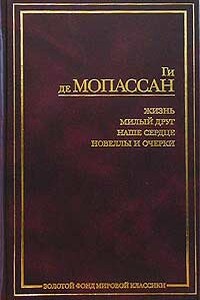Густолиственные, отягченные росой ветви кленов нависали над железной крышей и затемняли окно второго этажа. Когда июльское солнце поднималось над высокой грядой домов Мариинской и улицы Барона, стены комнат покрывались золотистыми дрожащими узорами.
Во флигеле профессора Грюна было так тихо, точно он вымер. Выходившие на улицу массивные здания изолировали его от шума таксомоторов. До желтого деревянного домика в глубине узкого двора долетал только глухой слитный гул, да и тот был слышен, лишь когда в буфете чуть позванивали плотно сдвинутые рюмки или с легким щелканьем входил в паз остановившийся на полдороге язычок дверного замка.
В мягких туфлях, с пыльной тряпкой и лейкой в руках, по лестнице осторожно поднималась старая Ева. Каждый раз, когда свежевыкрашенные, но ветхие ступени издавали легкий скрип, лоб ее прорезала глубокая морщина. Вряд ли этот еле заметный шум долетал до комнаты господина профессора и тревожил его. Но в доме с самой весны привыкли ходить на цыпочках и говорить вполголоса.
На площадке Ева остановилась перевести дух. В открытое окно слышно было, как с верхних веток на нижние шлепались капли росы. Сквозь густую зелень виднелась серая, вся в пятнах, глухая стена химической прачечной, высоко поднимавшаяся над четырьмя кленами дворика. Было прохладно и даже чуть-чуть сыро. Ева окинула недовольным взглядом неизвестно для чего выращенные здесь деревья и застегнула на все пуговицы вязаную кофту.
На втором этаже, по каждую сторону коридорчика, две комнаты: раньше здесь была частная клиника. Спальня почти пуста и прибрана кое-как. На полу еще остались шесть светлых пятен от ножек железной кровати. Шкаф заперт больше года — с того времени, как профессор перестал ходить на лекции и надевать длинный сюртук. У окна, на высокой камышовой подставке горшок с хилой араукарией. Он стоял здесь еще до женитьбы профессора. Свои цветы госпожа профессорша взяла с собой, когда перебралась на нижний этаж.
Ева полила араукарию и повернула ее к окну другим боком. В этом не было никакой надобности: растению грозила неминуемая гибель. Но Ева все делала по заведенному порядку до тех пор, пока его не отменили. Тихонько орудуя лейкой, она прислушалась к доносившимся из-за стены звукам и кивнула головой. Это был глухой протяжный кашель, скорее похожий на хрип замученного животного.
Дверь в комнату господина профессора, которую Ева плотно прикрыла утром, отворилась без малейшего шума. Кровать стояла изголовьем к окну, так что на лицо больного падала тень от подушек, и его можно было рассмотреть лишь с середины комнаты. Оно было иссиня-бледное, обросшее седоватой щетиной, с резко выступающими костями челюстей и темными провалами глаз. Страшнее всего казался рот. Он был широко открыт, так что виден был белый распухший язык, и из него время от времени вырывался хрип. Было ясно, что больному приходилось напрягать всю силу воли, чтобы закрыть рот. Но вот худая, как у мертвеца, вся в жилках, рука приподняла фанерную дощечку с приколотой к ней полоской печатной бумаги и заслонила его лицо. Такие листы профессор читал уже целый месяц. Красный карандаш скатился на пол, Ева подняла его и осторожно положила в складку одеяла на груди больного. Заметив, как при этом нервно дрогнули опущенные веки с длинными ресницами, она сразу отошла от кровати.
Принесенная давеча чашка бульона, как всегда, была отодвинута, и несколько капель пролилось на блюдце и белоснежную скатерть. Ева только что собралась для вида пройтись тряпкой по книжным полкам, но, увидев облитую скатерть, опустила руку и пожала плечами. Потом схватила чашку и выбежала из комнаты. На этот раз дверь захлопнулась с громким стуком, и на лестнице заскрипели все ступени.
Госпожа профессорша нагревала на газовой плите щипцы и, сидя перед зеркальцем Евы, подвивала растрепавшиеся у висков коротко остриженные светлые волосы. Она еще в зеркале увидела взволнованное лицо Евы и обернулась. Ева, еле переводя дух, проговорила:
— Барыня, ваша новая скатерть вся в жирных пятнах.
Хозяйка сдвинула брови.
— С краю, где вышивка?
— Нет, нет! На самой середине. На том же месте, что и в прошлый раз, когда отдавали в чистку к Данцигеру.
Хозяйка махнула рукой, в которой держала коробку пудры.
— Что делать, Евиня, с больными всегда так.
Ева покачала головой.
— Ну и приходится же вам терпеть, барыня.
И обе одновременно вздохнули.
Ева взглянула на картину, которую когда-то принесла с чердака и повесила у себя в кухне. Сюжет ее отчасти напоминал то, что происходило в доме. Из рамы с облупившейся позолотой выступало просветленное, смиренно улыбающееся лицо покойницы, набожно сложенные на груди руки, и в них крестик. Из-за бордовой плюшевой занавески высовывалась головка румяного ангелочка и пухлая ручонка с цветком лилии.
— Видывала я на своем веку, как люди помирают, у самой муж помер от нарыва в животе…
Хозяйка поняла недоговоренное, но кивнула только после того, как сняла со лба ваткой крем.
— Он ничего не спрашивал?
— У меня? Когда это он у меня что-нибудь спрашивал? Я и заходить-то к нему боюсь.
Хозяйка еще раз вздохнула: