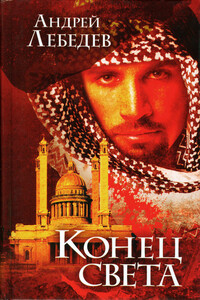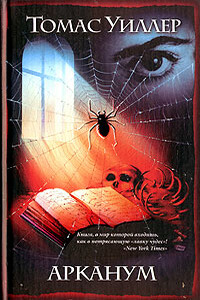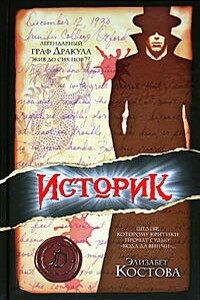Нагруженная пакетами старушка переходила Стадхудерскаде так, как будто от этого зависела ее жизнь. Увидев ее, водитель автобуса выругался и ударил по тормозам. Пробиваясь сквозь мутную пелену густо падающего снега, дама шла, низко опустив голову, словно использовала ее в качестве тарана. Удивительно, что она еще видела, куда движется. Некое чувство, более надежное, чем зрение, вело ее к намеченной цели, так что прохожие невольно останавливались, смотрели и покачивали головами.
В тот самый момент, когда женщина добралась до тротуара, сквозь серую хмарь проглянуло январское солнце. Лучи упали на огромный готический фрегат Государственного музея с грузом творений Рембрандта, Брейгеля и Вермера. Солнце просочилось через листовое стекло световой шахты, на которой, в уголке научно-технической библиотеки музея, умер некогда залетевший туда вяхирь, пробежало пальцами по кожаным спинкам переплетов, скатилось по латунным перилам винтовой лестницы и, полыхнув, отскочило от полированного дубового стола, прошлось по стопке послевоенных аукционных каталогов, вращающейся картотечной стойке, регистрационной книге местной транспортной фирмы, увеличительному стеклу и покрытым гусиной кожей предплечьям Рут Браамс как раз в тот момент, когда она приглаживала свои короткие светлые волосы.
Рут сложила руки на свитере крупной вязки и опустила голову. Кожа у нее была бледная от холода. Солнце взялось за свои старые фокусы. Оно не грело, но обещало согреть, а едва дав немного тепла, тут же поспешно его отбирало. Рут даже не пыталась скрыть усталость.
Майлс Палмер, крупный, с перехваченными в хвостик волосами англичанин, откомандированный в музей расположенным в южном пригороде офисом «Сотбис», копался в ящике с почтовой корреспонденцией, помеченным июнем 1943-го, и заносил добытую информацию в ноутбук. Его специализацией на историческом поприще была нацистская экспроприация.
— Не покидай нас, — прошептал он по-английски, — ты еще нужна культурной революции.
— Знаешь, на что похожа эта работа? Я только что поняла.
— На наблюдение за процессом высыхания краски?
— Нет… слишком пассивно. Тебе не приходилось перебирать зернышки перца в боксерских перчатках?
Рут откровенно зевнула.
Ей было тридцать два, и пятью годами раньше она закончила докторскую диссертацию по домашней типологии в работах Яна Стена, голландского художника семнадцатого века. С тех пор она занималась тем, что помогала подруге управляться с парикмахерской, служившей также художественной галереей, сдавала напрокат велосипеды, а летом еще и работала гидом в Музее Ван Гога, проводя экскурсии для англоязычных туристов, за что получала скудное вознаграждение.
Год назад ей позвонили.
Позвонили из амстердамского бюро голландского отделения искусства международного реституционного проекта, работавшего совместно с бюро Главного государственного архива в Гааге. Оказалось, что в моду вдруг вошли историки искусства, особенно те, у кого в мозгу имелся встроенный детектор распознавания подделок, и теперь повсюду стали пересматривать заявленные претензии, создавались компьютеризированные базы данных и внедрялись информационные системы. Все зашевелились, взялись за дело сообща, чему в немалой степени помог ощутимый пинок под зад от Комиссии по возвращению предметов искусства и учету утраченных культурных ценностей Всемирного еврейского конгресса.
В начале Второй мировой войны почти четверть всех произведений искусства в Европе перешла из одних рук в другие. После столь массового исхода они потихоньку, нерешительно и медленно возвращались домой. И вот наступило время устранения последних барьеров, снятия печатей с последних заговоров молчания. Все это называлось «очищением», и историки искусства выполняли роль уборщиков-детективов. За прошедшие десятилетия репатриированными оказались множество ценностей, которые передавались на хранение государству. Некоторое время назад они были выставлены на всеобщее обозрение, и когда претенденты подавали исковые заявления, последние подлежали проверке. В ход шло все — учетные записи, письма, фотографии, каталоги, даже обрывки бумаги с коротким, в одну строчку, описанием картины.
Некоторые музейные гранды, однако, не спешили. Время было на их стороне. Они сочувственно качали головами. «Что делать, друг мой, порядок есть порядок, а бюрократическая процедура длинна и сложна. Если расследование затягивается, если заявители и их наследники не доживают до счастливого финала, что мы можем поделать?» Предметы искусства остаются в собственности государства ввиду отсутствия претендента. Больше им деваться некуда. Иногда на счет фонда жертв Холокоста поступал символический взнос. Музеи и правительства берут на себя огромную ответственность. Они не хотят создавать прецеденты. Не хотят расставаться с сотнями картин без серьезной оценки и тщательного изучения обоснованности каждого без исключения искового заявления.
И опять же слишком часто проведенное расследование заходило в тупик. На войне убивают, а что остается, когда рассеиваются пыль и дым? Беспризорная собственность, бесхозные ценности… Голос, который мог бы прозвучать и потребовать, молчит. Документы, которые могли бы подкрепить право наследования, давно исчезли. И картина остается висеть в какой-нибудь знаменитой художественной галерее, где ею восхищаются все желающие, радуя посетителей игрой красок, оживших под прорвавшимися вдруг сквозь зимние тучи золотистыми, белыми и голубыми лучами солнца. Обветренные губы складываются в улыбку, слезящиеся глаза блестят от удовольствия. Вот портрет работы Николаса Маеса, вот речной пейзаж Саломона ван Рюйсделя, вот «Жертвоприношение Ифигении» Яна Стена. Смотрите. Любуйтесь. Не торопитесь. Кому есть дело до их происхождения? Кто усомнится в их праве находиться здесь? Вот он, перед вами, такой, как есть — холщовый парус на реке времени, безразличный к человеческим переживаниям и историческим потрясениям. Благодаря чьим-то стараниям, чудом или по чистой удаче он выжил, сохранился.