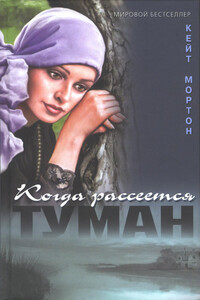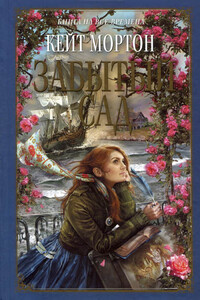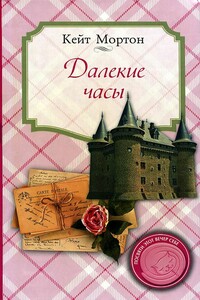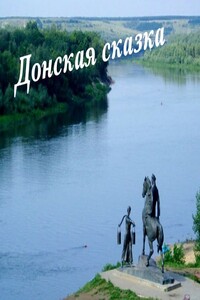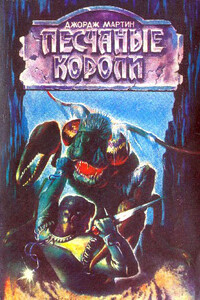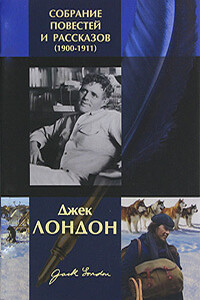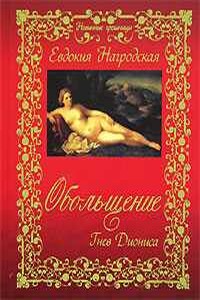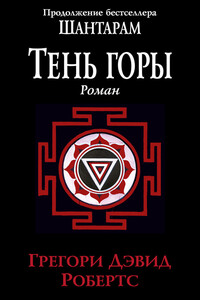В Берчвуд-Мэнор мы поехали потому, что Эдвард сказал, будто это дом с привидениями. Дом был обычным – по крайней мере, тогда, – но только зануда ради правды может испортить хорошую историю, а Эдвард никогда таким не был. В нем была страсть, и если уж он во что-то верил, то верил истово и так же истово убеждал в этом других. За это я его и полюбила, то есть и за это тоже. Его пыла хватило бы на полдюжины проповедников, а говорил он, отливая каждую свою мысль в звонкую, полноценную монету слова. Он умел собрать вокруг себя людей, разжечь в них такой энтузиазм, какого они сами за собой не знали, и сделать так, чтобы для них померкло все, кроме его мнений и убеждений.
Но проповедником Эдвард не был.
Я его помню. Я помню все.
Помню студию со стеклянной крышей в лондонском саду его матери, запах свежей, только что смешанной краски, шорох щетины по холсту, его взгляд, скользящий по моей коже. В тот день я вся была как на иголках. Мне так хотелось произвести на него впечатление, хотелось, чтобы он поверил, будто я та, кем вовсе не была, и, пока его взгляд охватывал меня всю, от макушки до пят, в голове у меня вертелись слова миссис Мак: «Помни, твоя мать была истинной леди, и родня у тебя из благородных. Разыграешь свои карты как надо, и, глядишь, все наши пташки целыми и невредимыми вернутся на свой насест».
И я еще больше выпрямляла спину, сидя в тот первый день на стуле из розового дерева в белой комнате, за спутанной завесой из нежно-алого душистого горошка.
Его младшая сестра приносила мне чай и пирожок, если мне случалось проголодаться. И его мать тоже приходила к нам по узкой садовой дорожке взглянуть на работу сына. Она его обожала. Видела в нем воплощение своих надежд. Выдающийся член Королевской академии, помолвленный с леди из состоятельной семьи, отец выводка кареглазых наследников.
Такие, как он, не про мою честь.
Позже его мать винила себя во всем, что произошло, но она скорее смогла бы разлучить день с ночью, чем удержать нас вдали друг от друга. Он называл меня своей музой, своей судьбой. Говорил, что сразу это понял, едва увидел меня там, в фойе театра на Друри-лейн, в жаркой дымке газового света.
Я была его музой, его судьбой. А он стал моей.
Это было давно; это было вчера.
О, я помню любовь.
Я особенно люблю укромный уголок на площадке главной лестницы, в одном пролете от второго этажа.
Чудной это дом, и строили его с особой целью – сбивать людей с толку. Лестницы здесь угловатые, как молоденькие девушки, перила выпирают, будто локти или коленки, ступеньки неровные; окна, сколько ни смотри на них сквозь ресницы, все будут на разной высоте; половицы и стенные панели скрывают хитрые тайники.
В моем уголке всегда тепло, так тепло, что даже странно. Мы все тогда обратили на это внимание, с самого первого дня, и в первые недели лета по очереди пытались разгадать причину.
Мне понадобилось время, чтобы понять, отчего это, но теперь я знаю правду. Теперь я вообще знаю этот дом не хуже, чем собственное имя.
Эдвард соблазнял других не домом как таковым, а светом. В ясный день из окон мансарды виден другой берег Темзы – аж до Валлийских гор. Полосы розовато-лилового чередуются с зеленым, меловые утесы ступенями восходят к облакам, и все это будто сияет, окутанное прогретым воздухом лета.
Вот какое предложение он им сделал: целый месяц лета, наполненный живописью, поэзией, пикниками, рассказами, наукой, изобретениями. И светом, божественным светом. Вдали от Лондона и его любопытных глаз. Ничего удивительного, что другие сразу клюнули. Эдвард и черта заставил бы петь псалмы, приди ему такая блажь.
Только я одна знала другую цель его приезда сюда, он мне открылся. Конечно, свет был приманкой и для него, но еще у Эдварда была тайна.
Со станции мы шли пешком.
Стоял июль, день был ясный. Легкий ветерок заигрывал с краешком моей юбки. Кто-то захватил с собой сэндвичи, мы ели их на ходу. Вид у нас, наверное, был еще тот – мужчины ослабили галстуки, женщины распустили волосы. Все смеялись, поддразнивали друг друга, веселились.
Какое замечательное начало! Помню, где-то рядом журчал ручеек, лесной голубь ворковал над нашими головами. Какой-то человек вел в поводу лошадь, в телеге, на тюках соломы сидел маленький мальчик, пахло свежескошенной травой – о, как я тоскую по этому запаху! Жирные деревенские гуси настороженно уставились на нас глазами-бусинками, когда мы приблизились к реке, а когда мы прошли мимо, храбро загоготали нам вслед.
Сколько света было вокруг, жаль, что все так быстро кончилось.
Хотя это вы уже поняли, ведь если бы свет и тепло продолжались, не о чем было бы говорить сейчас. Кому интересно слушать про спокойное, счастливое лето, которое кончилось так же, как началось. Этому меня тоже научил Эдвард.
Уединение тоже сыграло свою роль; дом стоит на берегу реки, одинокий, как выброшенный на берег корабль. И погода; жаркие, сияющие дни шли один за другим, пока однажды ночью не разразилась гроза, которая загнала нас всех под крышу.