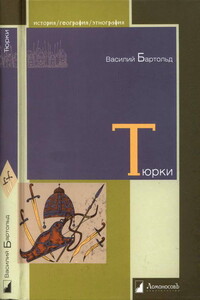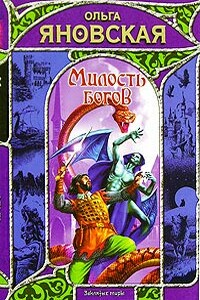«А память
из чего она состоит
как она выглядит
и какой потом обретает вид
эта память…
…потому что теперь я могу выбирать ».
© Jacques Prevert.
***
В тот, первый год, осень была удивительно ярка и стремительна. Ясное небо, пронзительно-голубое вверху и оперившееся по краям тонкими бело-розовыми облаками, мягким куполом прикрывало прозрачный воздух, стремящийся сравниться чистотой с горным хрусталём. Казалось, что падающие с деревьев на парковых аллеях багряные и золотистые листья должны звенеть, касаясь этого воздуха, а не шуршать, то плавно скользя вниз и лениво вращаясь, то стремительно падая под ноги.
Должно быть, он выглядел странно, бродя в старом, заброшенном парке, рассеянно оглядывая верхушки деревьев, неузнаваемо выросших с поры их детства, или вдруг принимаясь яростно разбрасывать листья, устилающие землю под ногами. Тогда, днём, он честно пытался проститься и — нет, не забыть, но хотя бы…
Что именно «хотя бы», он и не знал. А вечером — была полутёмная пыльная комната, стены которой закрывали высокие шкафы с потрёпанными фолиантами, единственный шаткий стол и притаившееся в углу кресло с оборванной обивкой, в котором он так и просидел до рассвета. И ещё — было огневиски. Много огневиски. Чтобы понять то самое «хотя бы»…
Ещё через три года осень снова была светла, но лёгкости уже не ощущалось — пытаясь успеть хоть что-нибудь, он яростно торопился, порой путая одно дело с другим и, когда очнулся от этой круговерти, вдруг понял, что тот — заветный момент, уже прошёл, а за окнами замка глубокая ночь. Сам не зная, зачем, он вышел за ворота и долго-долго ходил по короткому отрезку дороги, доходя до поворота и возвращаясь — не решаясь, не желая даже взглянуть, что там, за ним. Серебрившаяся в лунных лучах пыль под ногами почему-то пахла холодом, металлом и кровью. Пахла страхом.
Тогда он впервые произнёс: «Что случилось, то и есть» хриплым от долгого молчания голосом.
Той ночью выпивки уже не было. Да и вообще ничего не было — уснул прямо у стола в кабинете, а когда проснулся, уже слабо брезжил рассвет. Наверное, тогда была самая лёгкая из «этих ночей», как он смог их со временем называть.
Ещё пять лет спустя — был совершенно особенный день. И не потому, что осень на этот раз была какой-то необычной — напротив, с самого утра, не прекращая, лил дождь, и настроение было ему под стать. День был особенным, потому что «эта ночь», следующая за ним, должна была стать последней. Нет, его даже за многие годы не смогли переубедить и он по-прежнему не собирался забывать, как бы ни было страшно и отчаянно-больно. Просто в следующем году в «Хогвартс» приедет тот, рядом с кем придётся боль и ненависть держать при себе…
Завершив все дела, с обычной пунктуальностью проведя занятия и проверив самостоятельные работы, он, скрепя сердце, выдержал три часа отработок, назначенных «особо талантливым» студентам. Затем пришлось ещё разрешить несколько проблем, связанных с почти неизбежными конфликтами первокурсников и попросить профессора Вектор заменить его на ночном дежурстве, после чего, наконец, он смог уединиться в личном кабинете, на всякий случай заблокировав от проникновения камин и заперев изнутри дверь.
Отодвинув от стены тяжёлый овальный стол и убрав с него книги, чернильницу, перья и прочее, снял верхнюю раму, обтянутую тёмно-зелёным сукном и заменил её на принесённую ранее дубовую, отполированную так, что была видна структура дерева. Скинув мантию, взял из медицинского шкафа в лаборатории чистую ткань, намочил её в ледяной, обжегшей холодом пальцы воде. Не торопясь, тщательно вымыл поверхность стола и расставил по краям несколько свечей.
Засучив рукава, он прошёл на маленькую кухню и, периодически бормоча про себя «пол-унции, нет, три четверти…» или «нарезать кружочками, а затем ещё напополам…», приготовил два простых блюда, переложил в глубокие глиняные миски и отнёс их в кабинет, поставив посреди стола. Затем принёс и открыл защищённый чарами сохранения графин, из горлышка которого отчётливо пахнуло пшеницей и мёдом.
Придирчиво осмотрев получившуюся композицию, он, похоже, остался доволен и вышел из комнаты, а, вернувшись, поставил на дальний от кресла конец стола небольшие водяные часы, перевернув их. Сев в кресло, застыл, выпрямившись с неестественно прямой спиной, неотрывно следя за падающими из верхнего сосуда в нижний большими каплями. Жемчужно блестящая, янтарного цвета жидкость слабо мерцала, отражая пламя свечей.
Почти восемь лет назад ему пришлось совершить путешествие в Восточную Европу, где он и стал свидетелем того, что сейчас делал сам. Тогда ему рассказали, что такое тризна и чем она отличается от таких же праздников древности, а он — изменил обряд для себя, увидев в этом шанс помнить и сохранять свою боль, не теряя достоинства.
Последняя капля, блестя в неярком свете, скатилась вниз и часы мелодично зазвенели, оживляя мёртвую тишину. Сидящий в кресле как-то рвано выдохнул и, пододвинув к себе графин, налил в высокий бокал напиток — старый мёд с лимонным соком. Не успел он поднести его к губам, как в дверь как-то вкрадчиво постучали. Недовольно поморщившись, он отставил бокал и поднялся из кресла. Проскользнула мысль, что даже если это какой-нибудь шутник, злится не хочется — воспоминания уже овладевали им и оживляемые ими ощущения приглушали всё прочее. Сняв заклятие, он повернул ручку и потянул дверь на себя. К его удивлению, за порогом стоял Филиус Флитвик.