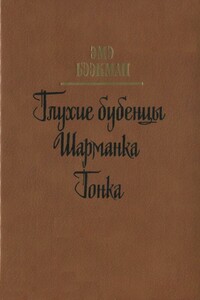Сергей Николаевич Сергеев-Ценский
Дифтерит
Рассказ
I
"И-и-и, рроди-имые вы мои-и-и!" - визжало и хлопало о стропила отвороченное с крыши ветром листовое железо.
В большие окна барского дома глядела зимняя ночь.
Ветер раскачивал ее, налетая с размаху, но она не уходила от окон. Она смотрела в их впадины тусклым взглядом, и в бездонных глазах ее виднелась тоска.
Тоска эта переливалась из ее глаз, сквозь стекла окон, в гостиную и застывала там под лепным потолком, под карнизами, по дальним углам; опускалась на мягкую мебель, обвивала дорогие растения, как тонкая паутина ложилась на вычурные занавеси.
Тоски этой было слишком много для двоих, а в гостиной было только двое - хозяин, помещик, и гость, его двоюродный брат Ульян Иваныч.
Хозяин лежал на диване, а Ульян Иваныч сидел за столом, с видимым наслаждением курил дорогую сигару и говорил.
От большой висячей лампы с зеленоватым абажуром по комнате разливался колыхавшийся свет, похожий на лунный, и игривыми пятнами ложился на сильно потрепанное жизнью лицо Ульяна Иваныча, на его подстриженную редкую бородку, на морщинки под грустными глазами, на круглый облысевший лоб и на костюм его, носивший следы тяжелого бремени лет и многократной чистки.
Хозяин лежал в тени, и тело его черной тяжелой массой вдавилось в мягкое тело дивана. У него была угловатая голова с резко очерченным лицом; в спинку дивана уперлись его сильные, закинутые одна на другую ноги в высоких охотничьих сапогах.
На столе стояли две коробки с сардинками, тарелки с объедками и кусочками хлеба, бутылка какого-то вина и пепельница.
В большой комнате с высокими потолками терялась потертая фигура Ульяна Иваныча, и голос его звучал робко и слабо.
- Уж у меня такая примета, - говорил Ульян Иваныч, - чуть что тебе удастся для самого себя сделать приятное, то есть веселое этакое какое-нибудь, - так и знай, что не к добру веселился... Там уж что-нибудь ждет такое... возьмет и кокнет!.. Не тут, так там, не тут, так там - уж где-нибудь оно есть: возьмет и кокнет!
Говорил Ульян Иваныч, точно во рту его было два мешающих друг другу языка, с большим трудом, выгибая вперед и изворачивая голову на длинной шее, как будто хотел проглотить большой кусок теста и не мог проглотить. Передние зубы у него были с широкими промежутками, прокопченные, упрямо торчавшие в разные стороны, и оттого, что у него были такие зубы, все, что он говорил, казалось надоедливым, жестко торчащим и прокопченным.
- Сядешь на зеленую травку, - продолжал Ульян Иваныч, уныло мигая глазами, - помечтаешь о том о сем, хорошо тебе: тень, прохлада, птички чирикают. Уж на что, кажется, невинное удовольствие? Ан нет! В тебя уж там вцепилось что-нибудь такое: насморк, кашель... за что?.. О другом о чем лучше и не говорить, например насчет заповедей... Возмездие!.. Великое это дело, ей-богу! И слово-то какое страшное придумано: возмездие!
Ульян Иваныч покачал головой, затянулся сигарой и собрал в мелкие морщинки глаза.
Дым, который он выпускал изо рта, синеватый и тощий, был тоже какой-то робкий, запуганный и не поднимался красивыми кольцами, а свертывался клочьями и падал вниз.
- Сколько разных преступлений из-за так называемой любви в газетах попадается, - продолжал Ульян Иваныч, - ужас, прямо ужас! Не приведи бог!.. Там муж жену убил, там любовник любовницу, там то, там это... И ведь большей частью неожиданно все... Идет человек, ни о чем не думает - вдруг откуда-нибудь из-за угла из револьвера или серной кислотой в лицо... Это женщины больше любят - серной кислотой... Кажется, из-за чего бы этак, а вот на!.. На всю жизнь калека или и совсем жизни лишится... Ведь это что?!
Хозяин поднялся.
Глаза у него были опухшие, тяжелые, фигура его была тоже тяжелая, и два только слова, которые он сказал: "Перестань болтать!" - были тоже резкие, плотные, тяжелые слова.
Ульян Иваныч съежился, точно сразу подсох, зажевал губами и усердно начал стряхивать пепел с сигары, а хозяин злыми стучащими шагами заходил по комнате.
В высокие окна смотрела черная ночь и точила безысходную тоску из бездонных глаз.
Дальние углы темнели густо и жутко, точно там притаился кто-то бесплотный, выжидающий, а в одном углу, за роялем, гладкий блестящий от лампы овальный лист фикуса был похож на чей-то немигающий глаз.
За окнами выла вьюга, и отвороченное с крыши железо хлопало и рычало, хрипело и жалобно визжало: "И-и-и, рроди-имые вы мои-и!", точно и ему было холодно, пусто и нудно.
II
Ульян Иваныч приехал к своему двоюродному брату Модесту Гавриловичу два дня тому назад. Тот, не видавший его лет десять, не нашел в нем большой перемены: немножко больше стала лысина, немножко худее стало лицо, немножко сгорбилась спина, но в общем он остался тем же Ульяном Иванычем, которого он знал и раньше, - человеком без определенных занятий, семейным, пришибленным и пугливым.
У него, так же как и прежде, было инстинктивное недоверие к своим вещам, словам, поступкам. Когда нужно было узнать время, он справлялся у кого-нибудь, даже и не пробуя вынимать своих часов; когда нужно было почистить платье, он просил у кого-нибудь щетку, твердо будучи убежден, что его собственная никуда не годится.