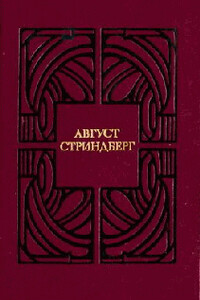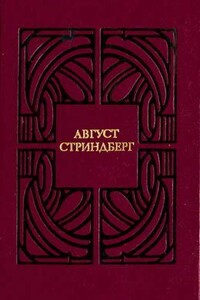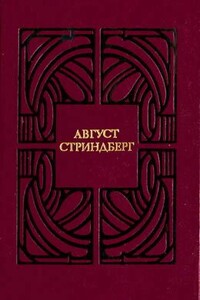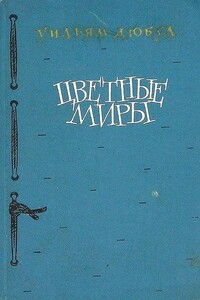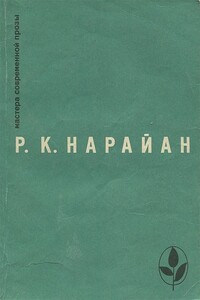На задворках Скамсунда среди прочих обездоленных жил и отставной лоцман Эман. Прослужил он на флоте чуть ли не до тридцати семи лет, когда однажды ясной лунной ночью посадил на мель финскую шхуну. Как это случилось, он и сам толком не разобрался; держал курс прямо на огни, ограждающие фарватер, хорошо знал, где мель, да и руль на шхуне был в полной исправности… Эх, темное было дело! На суде Эман клялся, что в тот день и капли спиртного в рот не брал. Но поскольку он вообще-то выпивал, сочли, что он и тогда был пьян. Вот его и выгнали со службы, да еще присудили возместить финнам урон – шхуну и груз, – пятьдесят тысяч крон.
Внести в приговор слова о крепких напитках, когда человек в день беды был трезв как стеклышко, было со стороны суда более чем неосторожно. Благодаря этому Эман обрел некоторое преимущество, так как формально суд допустил явную несправедливость.
Когда же он со споротыми галунами и кокардой с форменной фуражки в кармане вышел из здания суда на Корабельный остров, ему почудилось, будто город выглядит совершенно иначе. Хотя военно-морское училище стояло, разумеется, на своем прежнем месте, оно показалось ему совсем маленьким и незнакомым. Прежде оно внушало ему уважение, как бы олицетворяя для него нечто недостижимое, некую высочайшую вершину в том маленьком мирке, где он сам пребывал у самого подножья, почтительно, в слепом благоговении склоняясь пред власть имущими и высокой наукой. Теперь же, когда его выкинули из привычного для него общества, всю его почтительность и благоговение как рукой сняло. Власть имущих он больше не интересовал, чаша терпения переполнилась, и он уже не лежал в пыли у их ног; он очутился за пределами их влияния, не мог сравнивать себя с ними, стал внезапно вольной птицей и почувствовал, что беда возвеличила его.
И вот он снова вернулся на Скамсунд. Был уже полдень, когда пароход причалил к пристани, на которой болтались без дела лоцманы. Одни пришли сюда с откровенным желанием выразить сочувствие товарищу, другие же – только ради того, чтобы взглянуть, какой у него теперь вид. Глубокая серьезность царила на берегу – каждый понимал, что такая же беда могла обрушиться на любого из них и когда угодно. Ведь едва ли кто-нибудь смог бы вразумительно объяснить, как произошло кораблекрушение.
Пока спускали трап, Эман стоял, выдергивая кончики ниток из обшлагов на том месте, где были галуны. Плывя на пароходе, он все твердил, что скажет товарищам, и представлял себе, как глянет им в глаза. Ведь он мог прямо смотреть людям в глаза, так как совесть его была чиста.
Беря со скамейки небольшой баул, он сунул проездной билет в рот, чтобы высвободить руки. И, вступив на трап, широко расправил плечи. Здороваясь со старшим лоцманом, Эман совсем забыл про билет, так что первому помощнику капитана пришлось с шутками-прибаутками самому вытаскивать у него билет изо рта. Это нарушило составленную им заранее программу возвращения домой, торжественное обернулось комическим, а попытаться исправить промах уже не имело смысла.
Так что встреча приняла совершенно обыденный характер.
– Держись, старина! – приветствовал его старший лоцман.
И этим было все сказано; другие лоцманы только одобрительно кивнули головой, довольные, что беда случилась не с ними.
Эман, насупившись, стал подниматься в гору; на другом ее склоне приютилась его лачуга. Жены, которая бы ждала лоцмана, не было, она умерла. Зато Эмана ждал десятилетний сын. Он, ясное дело, не смел громко высказывать свои мысли, но лицо его было достаточно красноречиво, а глазам мальчика не возбранялось выражать обуревавшие его чувства. Чтобы оградить себя от возможных упреков сына, отец рывком отворил дверь и приказал мальчику, возившемуся у очага с переметом:
– Сходи-ка, Торкель, в сарай на берегу да принеси сети! Будем рыбу ловить!
Торкель тут же отправился в сарай. На душе у него было веселее, чем он сам ожидал. Ведь отец – на свободе, бодрый и решительный.
Три дня подряд Эман только и делал, что обходил домишки своих прежних товарищей, жалуясь на постигшую его несправедливость. Вначале ему горячо сочувствовали, но назавтра сострадания поубавилось, его встречали опустив глаза. И он понял, что между ним и былыми друзьями выросла стена. А чтобы разрушить эту стену, пришлось пустить в ход некоторые аргументы:
– Разве ж я был пьян тогда? Если б я выпил хоть каплю, я бы и слова дурного не сказал!
Он без конца повторял эти речи, надоел всем до смерти и стал просто невыносим. Заметив это, он прибег к помощи крупных сумм:
– Я мог бы зарабатывать по две тысячи крон в год, а теперь они все равно что брошены в море! Меня приговорили к штрафу в пять-де-сят ты-сяч крон! Пять-де-сят! (Лакомый кусочек – пережевывать такую крупную сумму!) Хотел бы я знать, где я их возьму!
Ни один из товарищей Эмана не мог ответить на этот вопрос, но то, что у него были такие большие долги, внушало известное уважение.
– Пять-де-сят ты-сяч! Да, они, как пить дать, отберут лачугу, а мне придется объявить себя несостоятельным должником!
На третий день Эман утратил всю прелесть новизны; при виде его люди поворачивались спиной или спешили удалиться. Тогда он решил спуститься вниз, к берегу, на лоцманскую станцию, куда все эти плуты набивались, как сельди в бочке, и снова затянул ту же песню. Ответом было холодное молчание, лишь изредка прерываемое плевками, когда табачное месиво шлепалось об пол.