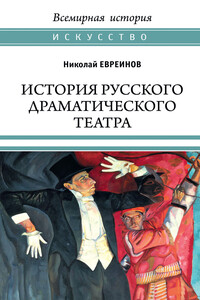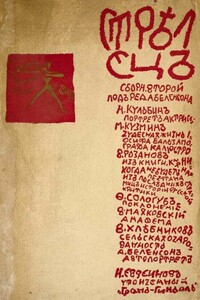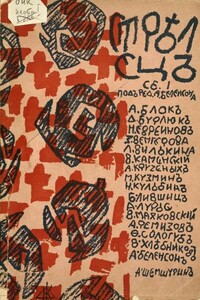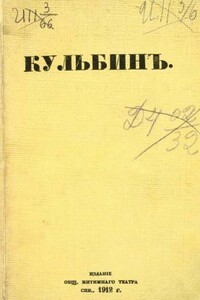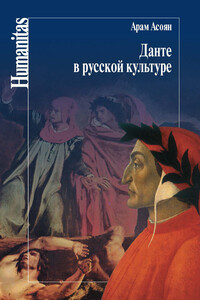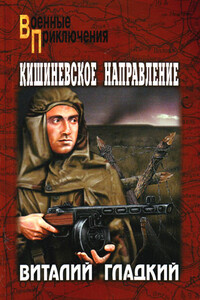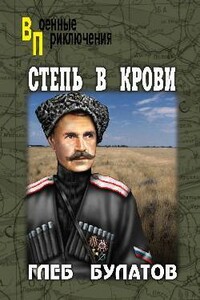В. Максимов. Философия театра Николая Евреинова
Среди ярких явлений великой театральной эпохи рубежа XIX–XX веков — времени, когда переосмыслялось соотношение искусства и жизни, когда театр превращался в режиссерский театр, когда искусство обытовлялось, а жизнь театрализовывалась, — театральная теория Николая Евреинова стала одним из самых глубоких и бескомпромиссных проявлений творческого духа. На рубеже XX и XXI веков эта теория оказалась самой незаслуженно забытой. О Евреинове помнят как об историке театра, как о создателе и режиссере Старинного театра, как о драматурге и режиссере «Кривого зеркала». Но это лишь малая часть всего того разнообразного наследия, которое оставил этот деятельный, разносторонний человек. И все же, возможно, самое главное в его творчестве — теория театра, разработанная в начале XX века и сформулированная в работах «Введение в монодраму», «Театр как таковой», в трилогии «Театр для себя» и многих других.
Современники Евреинова — театральные критики, историки, философы — видели в его теории некую философскую программу, переосмысление и развитие философии жизни, переработанной в философию театра. Е. А. Зноско-Боровский в 1925 году справедливо отмечал, что Евреинов «строит целую философскую систему»[1]. В том же году Б. В. Казанский опубликовал специальное исследование теории Евреинова, в котором подтверждал универсальность евреиновских принципов и понятий: «Театральность становится первоосновой и первым двигателем бытия, верховной и универсальной презумпцией культуры личности, ибо только в ней, как принципе созидания нового и собственного, зиждется как утверждение личности, так и движение истории вообще»[2].
В чем собственно состоит метод Н. Евреинова?
В распространении законов театра на любые жизненные процессы. В открытии некоего мирового единства, строящегося по законам театра. Выдвинутая Евреиновым идея «театрализации жизни» объясняет существование и развитие человечества как осуществление театральных принципов, {6} более реальных и существенных, нежели те бытовые законы, по которым живет современное общество. Стремление выработать некий универсальный философский метод на принципах театра позволяет говорить о методе Евреинова как о философии театра.
Но нет ли здесь отказа от театра как искусства? Нет ли подмены проблемы театра и путей его развития решением жизненных проблем? Каков собственно театр, законы которого получают такое универсальное значение?
Евреинова часто упрекали в том, что он предельно размывает границы театра и тем самым «отрицает» его[3]. Однако «театрализация жизни» лишь общее внешнее условие развития искусства, которое позволяет Евреинову выработать оригинальную концепцию театра.
В случае Евреинова мы имеем дело с параллельным развитием философии, объясняющей мир через инстинкт театральности, и театра как уникальной художественной формы. Естественно, само понятие «театр» существенно отличается от того театра, который окружал Евреинова.
Евреинов не принимает сам принцип существования театра как культурного института, независимо от того, что это за институт — кафедра, с которой можно сказать миру много добра, или средство развлечения, в котором каждый вечер муж вытаскивает любовника за ногу из-под кровати. «Какие бы сладкие песни вы ни пели мне про ваш театр, — пишет он в статье “Театрократия”, — как бы остроумно, научно и занимательно вы ни убеждали меня, что это культурный институт первостепенной важности, что это храм, где душа может искупительно очиститься, что театр — учитель нравов, кафедра добродетели, зеркало правды и пр., и т. п., — я останусь к искусству театра совершенно равнодушен, если не увижу, что это мой театр, театр для меня, для моей радости, для удовлетворения моего алкающего преображения, в этом несовершенном мире, духа!» (стр. 130 наст. изд.). Так, критерием театрального искусства Евреинов делает принцип преображения «я», приобщения личности к некоему общечеловеческому театральному началу, проявление инстинкта театральности. Позиция Евреинова бескомпромиссна и эпатирует приверженцев общественных устоев: «Мое личное благо есть решающий критерий всех ценностей мира. Когда я умираю на поле сражения, не отечество мне дорого и не за него я жертвую собой, а за себя самого, как гордого своим отечеством сына его» (стр. 130 наст. изд.).
Критерии не только театра, но и жизни оказались поставленными с головы на ноги: не человек ради отечества, а отечество ради человека, не театр ради улучшения жизни, а жизнь как следствие театральной природы, первичного театрального инстинкта. И если жизнь не соответствует театральности, следует изменить жизнь, преобразить ее по законам театра!
{7} Евреинов творил в те времена, когда высказывались немыслимые ранее прозрения. Но в эти же времена родилась теория отрицания театра. Театр признавался отжившим свой век под натиском новых общественных ценностей, новой науки, новых видов искусства. Евреинов полемизирует не с этой теорией. Он считает, что Юлий Айхенвальд и Дмитрий Овсянико-Куликовский (которые его скорее забавляют, чем раздражают) лишь пошли по стопам… натуралистического понимания театра, и прежде всего театра Московского Художественного. Подмена театра другими понятиями, отрицание театра произошло именно здесь: «Они захотели привлечь к оскопленному ими театру “литературой”, “настроением”, “стилизацией”, “археологией”, “бытом”, “художественностью”, пускались даже на фокусы, на трюки, не жалели труда, времени, денег, — а в результате… отрицание театра! Даже их театра!» (стр. 284 наст. изд.).