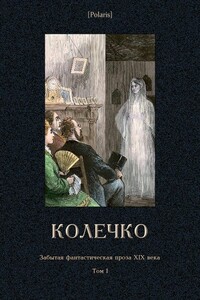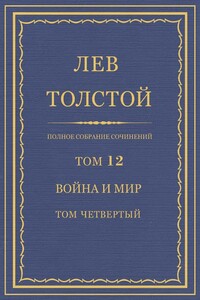Осенью дьячок села Кочергина сбирался ехать с своим девятилетним сыном в губернский город Т. Он намеревался записать его в третий класс духовного училища. Под самый день отъезда дьячок ходил по крестьянским дворам, просил дугу; от священника он получил благословение на далекий путь и дегтярку с помазком.
Его сын, Иван Декалов, вымытый, причесанный, в это время спал дома на печи. Дьячиха, Акулина Егоровна, пекла лепешки; а ее мать, бабушка Декалова, печально сидела в углу, мотала нитки. Акулина Егоровна то и дело подходила к сыну, целовала его, плакала и причитала: «Касатик, Ванюша…» и т. п. Бабушка твердила ей, чтоб она не будила внука; мать отходила к печи и, проливая слезы, хваталась за рогач.
Вечером, при огнях, Акулина Егоровна, дьячок и бабушка укладывали дорожные припасы в мешки.
Декалов давно проснулся. Он сидел в одной рубашке под иконами и беспрерывно вздыхал.
На другой день, утром, на проводы собрались в дом дьячка крестьянские ребятишки. Декалов с ними прощался, дарил им своих чижей и синиц.
Декалова закутали в толстую отцовскую свиту и обвязали полотенцами.
Помолившись богу, все вышли на улицу к повозке. Крестьянские ребятишки, каждый держа по птице в руке, смотрели на Декалова с неизъяснимым сожалением. Проходившие на барщину мужики с цепами останавливались и с удивлением спрашивали дьячка:
– Ай везешь, Савелий Григорьич?
– Везу. Что делать!..
– Ах, братец ты мой!..
– Ах, Ваня!.. – с размышлением восклицали мужики и покачивали головами.
Декалов чувствовал, как слезы текли по его щекам.
Мать и бабушка долго смотрели на отъезжавших.
Повозка проехала поповскую слободу: из окна священниковой кухни поклонилась путникам работница, когда-то сумерничавшая в доме Декалова. У ивкиных ворот стоит в раздумье мужик Харлам, будто о чем-то пригорюнившийся: он каждый раз на святой строил на лугу качели бабам и в хороводах первый запевал песни. У мельницы на берегу удит рыбу старый скотник: волна бьет его поплавки, и рыба не клюет… «Возвращусь ли я когда-нибудь сюда? – думал Декалов, совсем выезжая из Кочергина. – Увижу ли я тебя, родная моя сторонка?..» Вот поповский луг: на нем Декалов лавливал в осоке диких утят. Пастух у озерца стережет кочергинскую скотину; сам, сгорбившись, плетет лапти; ветер шумит и волнует ближний дубовый лес. В этот лес третьего дня ходили девки за грибами: Машка, Варька, Дуняшка… Где они теперь?
Через два дня пути, в час пополудни, Декаловы ехали по Т-ой губернской улице, называемой Большой, или Воронежской. Измученная гнедая лошадь, с вытертою шерстью на ляжках и побитой спиной, насилу тащилась, часто поглядывая на растворенные ворота постоялых домов. Дьячок по временам поправлял на ней кнутовищем сбоченившуюся шлею. Телега, некогда служившая водовозной, в дороге совершенно разбилась; покачиваясь из стороны в сторону, она издавала сильный визг; по бокам ее высовывалась наружу солома и выпускала из себя, как ребра, выломленные перегородки. Из вершины высокой, растрепавшейся шапки дьячка, как из огнедышащей горы, наподобие лавы, летел пух, разносясь по улице. Прохожие пристально смотрели на проезжих.
Был воскресный день. Большая улица наполнена была народом: разряженные купеческие жены с толстыми большими серьгами, чиновники с тросточками, мещане, подвыпившие сапожники разгуливали по бульварам. Вдоль улицы к собору и от собора ездили пролетки с молодыми купчиками, частным приставом, полицеймейстером, и катили шестернями запыленные дорожные кареты. На все это с любопытством глядели дьячок с сыном. Наконец, они повернули в Подьяческую улицу и стали разыскивать дом мещанина Овсова, которого им рекомендовал один знакомый.
Дом Овсова стоял недалеко от Воздвиженской церкви, окруженной кладбищем. Он имел две черные трубы, треснувшие пополам, и крошечное крылечко с низенькою дверью, забитою наглухо. На его крыше росла трава; черномазые окна походили на искривленные и потускневшие глаза умирающего человека. Глушь и запустение царствовали в Подьяческой улице несмотря на праздник.
У растворенных ворот Овсова дома стояла запряженная лошадь. Священник прощался с своим малолетним сыном, который отчаянно плакал, припав к его полукафтанью. Священник вынимал ему из кармана деньги, едва удерживаясь от слез; говорил, что по первому зимнему пути приедет к нему с матерью и братом Васей; не забудет также захватить с собою сестру Парашу.
Дьячок снял шапку перед хозяином, ссыпавшим в амбар муку, смиренно поклонился хозяйке, запиравшей калитку сада с ворчаньями на неугомонных жильцов, и повел свою лошадь к стороне. Какой-то мальчик, в синей жилетке, с книжкою на коленях, зажав уши, сидел на бревне лицом к забору. Декалов, стоя у телеги, глаз не спускал с мальчика, зубрившего урок. Дьячок отстегивал супонь у лошади. На соседнем дворе раздавались крики, стучали о забор свинчатками с чугунками, гремели бабки.
– Шестер!
– Ладыжка на кону!
– Жог, ника!
Шумели игроки.
Запыленный мукою хозяин переговорил с кочергинским дьячком касательно третного содержания, платы за квартиру и указал ему семинарскую комнату, предварив, что комната – игрушка! господам жить, а не семинаристам.