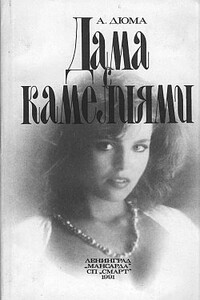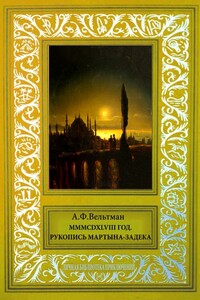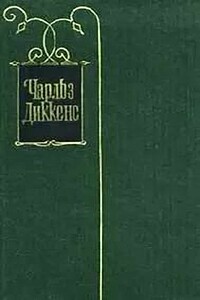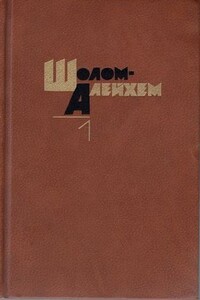Андре Моруа
Из книги „Три Дюма"
Под роскошными камелиями я увидел скромный голубой цветок.
Эмиль Анрио
<…>Дюма-отец сказал однажды Дюма-сыну: «Когда у тебя родится сын, люби его, как я люблю тебя, но не воспитывай его так, как я тебя воспитал». В конце концов Дюма-сын стал принимать Дюма-отца таким, каким его создала природа: талантливым писателем, отличным товарищем и безответственным отцом. Молодой Александр твердо решил добиться успеха самостоятельно. Он, конечно, будет писать, но совсем не так, как Дюма-отец. Нельзя сказать, чтобы он не восхищался своим отцом, но он любил скорее отцовской, нежели сыновней любовью.
«Мой отец, — говорил он, — это большое дитя, которым я обзавелся, когда был еще совсем маленьким». Таким вставал перед ним отец из рассказов его матери, мудрой Катрины Лабе, которая, чтобы зарабатывать на жизнь, содержала теперь небольшой читальный зал на улице Мишодьер. Она не затаила обиды на своего ветреного любовника, но и не питала на его счет никаких иллюзий.
У сыновей часто вырабатывается обратная реакция на недостатки отцов. Дюма-сын ценит ум и талант Дюма-отца, но его оскорбляют некоторые смешные черты отца. Он страдает, слушая его наивно-хвастливые рассказы. Образ жизни в отцовском доме, где вечно мечутся в поисках ста франков, внушает ему неосознанное стремление к материальной обеспеченности. Да и потом стариковское донжуанство всегда раздражает молодежь. «Я выступаю в роли привратника твоей славы, — сказал однажды Александр Дюма-сын Александру Дюма-отцу, — обязанности которого заключаются в том, чтобы впускать к тебе посетителей. Стоит мне подать руку женщине, как она просит познакомить ее с тобой».
К этому времени, чтобы не путать, их уже начали называть Александр Дюма-отец и Александр Дюма-сын, что очень возмущало старшего.
«Вместо того чтобы подписываться Алекс[андр] Дюма, как я, — что в один прекрасный день может стать причиной большого неудобства для нас обоих, так как мы подписываемся одинаково, — тебе следует подписываться Дюма-Дави. Мое имя, как ты понимаешь, слишком хорошо известно, чтобы тут могло быть два мнения, — и я не могу прибавлять к своей фамилии „отец“: для этого я еще слишком молод…»
В двадцать лет Дюма-сын был красивым молодым человеком, с гордой осанкой, полным сил и здоровья. В высоком, широкоплечем, с правильными чертами лица юноше ничто, кроме мечтательного взгляда и слегка курчавой светло-каштановой шевелюры, не выдавало правнука черной рабыни из Сан-Доминго. Он одевался как денди или как «лев», по тогдашнему выражению: суконный сюртук с большими отворотами, белый галстук, жилет из английского пике, трость с золотым набалдашником. Счета портного оставались неоплаченными, но молодой человек держался высокомерно и сыпал остротами направо и налево. Однако под маской пресыщенности угадывался серьезный и чувствительный характер, унаследованный им от Катрины Лабе; Дюма-сын скрывал эту сторону своей натуры.
В сентябре 1844 года отец и сын поселились на вилле «Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ. Там оба работали и оказывали самое радушное гостеприимство друзьям. Дюма-сын приглашал их любезными посланиями в стихах:
Коль ветер северный не очень вас пугает,
То знайте, вас прием горячий ожидает
Здесь, в Сен-Жермен-ан-Лэ, где, право же, давно
Хотели б видеть вас отец и сын его.
Однажды по дороге в Сен-Жермен Дюма-сын встретил Эжена Дежазе, сына знаменитой актрисы. Молодые люди взяли напрокат лошадей и совершили прогулку по лесу, затем вернулись в Париж и отправились в театр «Варьете». Стояла ранняя осень. Париж был пуст. В «Комеди-Франсез» «молодые, еще никому не известные дебютанты играли перед актерами в отставке старые, давно забытые пьесы», — писала Дельфина де Жирарден. В залах Пале-Рояля и «Варьете» можно было встретить красивых и доступных женщин.
Эжен Дежазе питал так же мало уважения к общепринятой морали, как и Дюма-сын. Баловень матери, он был гораздо менее стеснен в средствах, чем его друг. Молодые люди в поисках приключений лорнировали прелестных девиц, занимавших авансцену и ложи «Варьете». Красавицы держались с простотой, присущей хорошему тону, носили роскошные драгоценности, и их с успехом можно было принять за светских женщин. Их было немного — знаменитые, известные всему Парижу, эти «высокопоставленные кокотки» образовывали галантную аристократию, которая резко отличалась от прослойки лореток и гризеток.
Хотя все они и были содержанками богатых людей (а на что же жить?), они мечтали о чистой любви. Романтизм наложил на них свой отпечаток. Виктор Гюго реабилитировал Марион Делорм и Жюльетту Друэ. Общественное мнение охотно оправдывало куртизанку, если причиной ее падения была преступная страсть или крайняя бедность. Куртизанки и сами были не чужды сентиментальности. Большинство из них начинало жизнь простыми работницами: чтобы стать честными женщинами, им не хватило одного — встретить на своем пути хорошего мужа. Достаточно было прогулки в Тиволи, посещения зарешеченной ложи в Амбигю, кашемировой шали и драгоценной безделушки, чтобы перейти в разряд содержанок. Но, даже став продажными женщинами, они сохраняли тоску по настоящей любви. Жорж Санд умножила число непонятных женщин, мечтающих о «вечном экстазе». Все это объясняет, почему два юных циника в «Варьете» смотрели не только на соблазнительные белоснежные плечи куртизанок, но и вглядывались в их глаза, светящиеся нежностью и грустью.