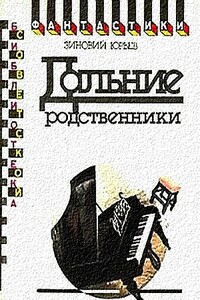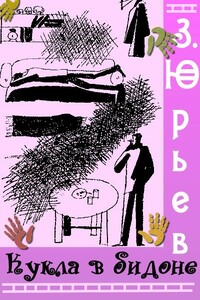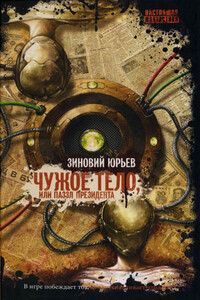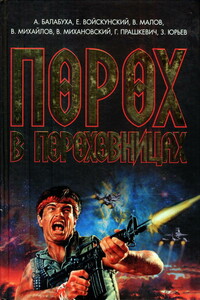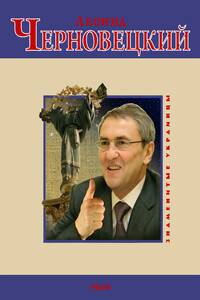Зиновий Юрьев
ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
Шагов до окна было ровно восемь. Не размашистых, не быстрых, не пружинящих, которыми он ходил — да что ходил — летал! — когда-то, а шаркающих, неверных шажочков — последствия инсульта. Дистанция, конечно, не совсем марафонская, но Владимир Григорьевич преодолел ее сегодня очень недурно, даже не остановился ни разу и, очутившись на стуле у окна, почувствовал смешную гордость — хоть выбрасывай вверх кулак жестом спортивного триумфа. Он на мгновение так и представил себе многоцветную гудящую чашу стадиона, а на гаревой дорожке себя, в своей вельветовой пижамке: одна рука на палочке, другая горделиво поднята вверх.
Он слегка ухмыльнулся. То, что он еще мог шутить или хотя бы пытаться шутить, было неплохо. Ей-богу, неплохо. Одна из немногих оставшихся маленьких радостей. Точнее, причин для самоуважения. Еще точнее, последний щиточек против давящей безнадежности последней финишной прямой.
Его семидесятивосьмилетнее немощное тело напоминало ему иногда медленно тонущий корабль: еще одна пробоина, еще одна, отказывает рулевое управление, заливает котлы. Покинуть судно он не может, как капитан. Но в отличие от него этот вопрос не профессиональной этики, а цепей, которыми он прикован к кораблю. SOS послать некому, да и не поможет никто, когда вот-вот пойдешь ко дну, и остается только улыбаться. Хотя бы только потому, что больше ничего делать не оставалось. Капитан, капитан, улыбнитесь…
Владимир Григорьевич расчетливо зацепил палочку ручкой за спинку стула — когда нагнуться, чтобы поднять упавшую палку — почти подвиг, поневоле станешь расчетливым — и взял бинокль. И бинокль он поднял расчетливо, правой рукой, левая у него после инсульта слабенькая, обхватил плотно, чтобы не уронить, не дай бог. Вещи уже давно относились к нему с оскорбительным пренебрежением: то и дело норовили выскользнуть из рук, упасть, спрятаться.
Как и всегда, прикосновение руки к черному шероховатому телу бинокля было чувственно-приятно. И оттого, что был это отличный прибор, легкий и мощный, с двенадцатикратным увеличением. И оттого, что подарил его внук, единственная родная душа в его сжавшемся, опустевшем мирке. Сашка купил его в Гонконге, двадцать пять долларов, знал, чем порадовать деда.
Владимир Григорьевич ухмыльнулся. Кажется, астрономы и астрофизики до сих пор не могут решить, сжимается ли Вселенная или раздувается в чудовищном флюсе. С его вселенной, увы, дело обстояло проще. Она стремительно сокращалась, черные дыры успели уже поглотить почти всех дорогих ему людей, силы, здоровье. Что ж…
Он вспомнил о письме внуку, которое написал уже недели две тому назад и все никак не решался отправить. Даже в конверт вложил, вывел почетче адрес: «Константин Паустовский», штурману Александру Семеновичу Данилюку. А отправить не отправил. Получилось письмо длинным, печальным и каким-то плаксивым.
«Саша, — скажут внуку на его «Паустовском», — тебе письмо».
Или к штурману полагается обращаться на «вы»?
Внук неторопливо вскроет конверт — даже не глядя на обратный адрес, по одному дрожащему стариковскому почерку сразу увидит, от кого письмо, — куда торопиться, какие срочные вести может сообщить ему немощный дед? Скользнет глазами и поморщится, что-то расхныкался дедуля. Жаль, конечно, старика, да что ж поделаешь.
Немножко он, конечно, перехватывал в своем воображении. Перестраховывался. И не скользнет торопливо взглядом Сашка по дедову письму и не поморщится. Любят они друг друга. И именно поэтому не хотелось Владимиру Григорьевичу лишний раз огорчать парня.
Не хотелось со стариковским эгоизмом перекладывать на Сашкины плечи свои неизбывные печали. Да, плечики у парня атлетические — Владимир Григорьевич живо представил его с гантелями в руках, с блестящими от юного пота бицепсами и трицепсами, но каждому возрасту своя ноша. Одному — пудовые гантели, другому — палочка с резиновым наконечником. Написать ему надо просто что-нибудь забавное, легкое. Чтоб улыбнулся. Чтоб вспомнил деда и его необременительную любовь. Главное — необременительную. Может, в этом главный секрет любви — не дать ей превратиться в бремя, уберечь ее от слова «должен»? Ну, например, написать Сашке, как он только что представил себя на гаревой дорожке…
Чтобы удобнее было держать бинокль, он сложил на подоконнике несколько книг стопкой. Наверху оказался Бальзак в воспоминаниях современников. Книжка чем-то неуловимо напоминала самого великого романиста, каким он представлялся Владимиру Григорьевичу: была она плотной, солидной, надежной.
Владимир Григорьевич вдруг вспомнил, как ездил когда-то в писательской туристской группе в Таиланд. Зачем ему непременно нужно было мотаться через пол земного шара в жаркий и влажный Таиланд, он не знал. Наверное, главным образом потому, что попасть в группу было необыкновенно трудно, а стало быть, и престижно. Он бегал, взъерошенный, по кабинетам, выпрашивал какие-то унизительные характеристики, словно это не он покупал туристическую путевку за свои тысячу триста кровных рублей, а ему оказывали высочайшую милость. Потом он зачем-то заучивал совершенно неудобопроизносимые фамилии таиландских политических деятелей, обмирая, как школяр перед какими-то нелепыми и тоже унизительными собеседованиями, с трепетанием сердца ожидал, что вот сейчас кто-нибудь из этих буддоподобных собеседующих пронзит его своими оловянными глазками и проскрипит ехидно: