Жак Годар как-то днем проходил мимо Пантеона. Вдруг он подумал: «Ни разу еще я туда не взбирался. Живительное дело! Последний провинциал, приехав с воскресным поездом, доставляет себе это удовольствие. А я живу в Париже тридцать пять лет и видел купол всегда только с тротуара».
Он вошел в здание и, справившись у сторожа, углубился в спираль лестницы.
Здесь было столько ступеней, движение человека казалось таким ничтожным в этой толще, куда он проникал, что Годару представилось, будто он крошечная тварь, буравящая стену.
Очутившись на верхней площадке, он удивился многому: прежде всего тому, что здесь такой ветер и что в этот мягкий весенний день в ста метрах над улицами царит такой беспокойный и буйный холод. Потом он ждал другого ощущения высоты. Готовился он к большему или к меньшему? В этом он не отдавал себе отчета. А главное, его поразил вид Парижа. Он знал, что Париж велик, как знают то, что Сахара пустынна, безличным и бесцветным знанием. К тому же, его прежняя профессия плохо помогала ему судить о громадности городов. Машинист на скорых поездах, он привык в четыре минуты пролетать от центра к линии укреплений. Паровоз обесценивает пространство; скопление кварталов и пригородов тает перед ним: поезд словно растворяет, улетучивает стены. Не успевает замолкнуть первый свисток, как уже городская ограда оседает позади вас, будто оболочка лопнувшего шара. Возвращаясь, Годар замечал город вдали, короткий миг мерил его взглядом, как талый снежный сугроб, который машина должна смести. Он проходил укрепления, не убавляя хода. Затем оставалось только закрыть пар, нажать на тормоза и скользить, скрипя колесами, под дымными мостами, по щелкающим стрелкам, до опорного прута вокзала.
Глядя сверху, он не столько был удивлен размерами города, сколько его сложностью. Какое разнообразие крыш и стен! Как глыбы домов непохожи друг на друга! И какая подо всем этим должна быть путаница! Она угадывалась, как под вздутой простыней сплетение тел, которое яростнее, чем складки.
Он стал искать вдали свою часть города и местоположение своего дома. После долгих колебаний он обнаружил нечто вроде маленького белого утеса, перед которым зыбился туман. «Это будет среди вон тех домов!» И он почувствовал себя очень взволнованным.
Он испытывал как бы неловкость и сожаление. У него билось сердце, как у человека, опоздавшего на праздник. «И подумать, что я живу там и что я постоянно всем этим окружен!» Он был не столько рад тому, что узнал это наконец, сколько опечален тем, что не знал этого раньше. Ему было досадно, что он так поздно спохватился. Сколько мощного совершилось под кровом этого тумана! Чего только не прошло по улицам, какие только силы не соединили их! Сколько здесь скрещивается соотношений, словно железных прутьев в железобетоне! Ничто не проникает в его вдовью квартирку. «Я нигде не бываю. У меня нет развлечений; я не существую».
Он заметил левее зеленую мглу и узнал в ней кладбище Пэр-Лашез. «Я свободен, да, свободен, как они. Кому какое дело до меня? Кто думает о таком, как я? Если я умру, мало что переменится».
Он окинул взглядом облик города: «Хотелось бы мне знать, думает ли кто-нибудь там обо мне?» Ему не хотелось спускаться вниз. Он бы хотел уйти отсюда только так, чтобы какая-нибудь сила, одна из ста тысяч сил, в одну секунду перенесла его домой, в его комнату, где ему бы уже не казалось странным, что он один.
Для людских глаз существование Годара было замкнуто в двух тесных комнатах на Менильмонтане. За пять лет, что он жил на пенсии, он не придумал себе никакого постоянного развлечения. Единственной его забавой было обрамлять старые гравюры, да иногда золотить деревянные изделия, которые он сам мастерил. Он часто думал о своей жене. Иной раз вечером, перед отходом ко сну, ему чудился в одиночестве враждебный шепот, который холодил ему плечи, как изморозь, и не улетучивался от тепла лампы. Тогда он грустил по умершей и давал себе слово завтра же съездить к ней на могилу. Он исполнял это обещание; в первом часу дня он садился в трамвай, со странно подрагивающим бугелем. На пригородном кладбище, на солнце, он впадал в умиление и на обратном пути выпивал четверть литра у виноторговца, всегда за тем же столиком, где трещина в мраморе напоминала дугу Сены, протекающей через Париж.
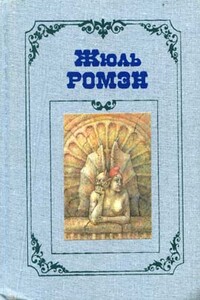
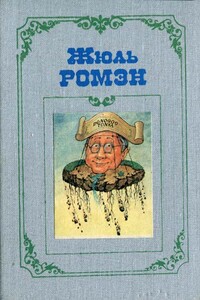
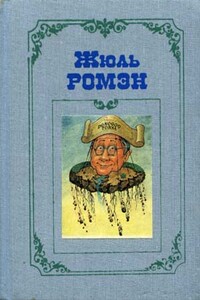
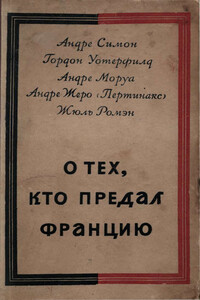
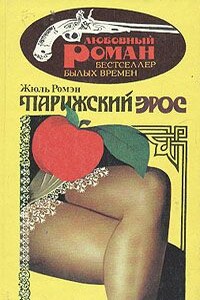



![Гибель Британии [журнальный вариант]](/storage/book-covers/a4/a4a6a1288b5667afdf00981363e499abf75abc06.jpg)

