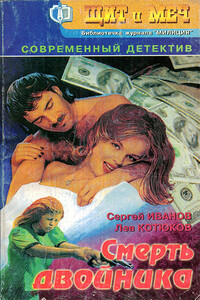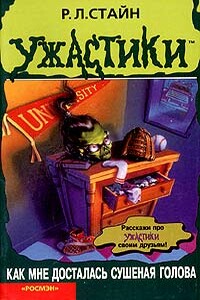Лев Константинович Котюков – ныне один из самых известных писателей России. Он – автор более тридцати книг поэзии и прозы, получивших заслуженное признание в нашей стране и за рубежом.
Лев Котюков – первый поэт в истории России, отмеченный за литературные труды Московской Патриархией и Патриархом Всея Руси.
Он – лауреат Международной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также лауреат ещё тридцати семи международных, всероссийских и региональных литературных премий.
Лев Котюков – Председатель правления Московской областной писательской организации, секретарь правления Союза писателей России, Заслуженный работник культуры России, главный редактор журнала «Поэзия», академик Международной академии Духовного единства народов мира и ряда других Академий России.
Главные литературные премии:
Лауреат Всероссийской премии имени А. А. Фета – 1996 г.
Лауреат Международной премии имени А. А. Платонова – 1997 г.
Лауреат Международной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – 1997 г.
Лауреат Международной премии «Поэзия» – 1999 г.
Лауреат Всероссийской премии имени А. Т. Твардовского – 2000 г.
Лауреат Всероссийской премии имени Н. М. Рубцова – 2001 г.
Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова – 2003 г.
Лауреат Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева – 2003 г.
Лауреат Международной премии имени М. В. Ломоносова – 2004 г.
Лауреат Всероссийской премии имени Н. С. Гумилёва – 2004 г.
Лауреат Всероссийской премии имени Петра Великого – 2005 г.
Лауреат Государственной премии первой степени Центрального федерального округа Российской федерации в области литературы и искусства – 2006 г.
Демоны и бесы Николая Рубцова
Памяти Николая Рубцова
Свистит листопад за кирпичной стеной,
Слова, как полова.
Глубокая полночь. Глубокий запой.
Улыбка Рубцова.
И в двери колотят, и в стены стучат —
Вся жизнь на примете.
Но вспомнишь улыбку и вспомнишь тотчас,
Как зябко на свете.
Ну что ж – колотитесь, авось надоест…
А впрочем – открою.
Но как одиноко, когда наконец
Оставят в покое.
Стена. Листопад. Ничего не постичь.
Улыбка и горечь.
И чиркает спичкой о мокрый кирпич
Ослепшая полночь.
Вдруг охолонет душу несказанная боль, провалится на мгновение душа сама в себя, – и померещится, приблазнится невозможное. Застучит тяжелая кровь в висках, словно быстрая вода в замерзающей полынье, – и прошепчет вкрадчиво темное безмолвие:
«Да не было ничего… И Рубцова никогда не было… И тебя не было и нет. В мире этом и в мире ином. Все – обман и морок. Все речения бессмыслены… Всюду прелесть гибельная. Истинное молчание в музыке. Но истинную музыку слышит только смерть…»
Нет, пить надо все-таки меньше!
И в зрелые лета, и в ранние. Как бы ни было скучно на этом свете, господа хорошие. Как бы ни было весело в мире сем, господа нехорошие!
А где сотоварищи?! Где сродники, сверстники, соратники, общники?!
Ничего!.. Лишь живое молчание… А господа давно уже не в Париже… И зримое в незримом, и музыка неслышимая, и слова неверные.
Нет, пить надо все-таки меньше!
Как бы ни было скучно на этом свете! Как бы ни было скучно на свете том!.. С нами и без нас! На мгновение и на веки вечные…
Падающего – толкни! Но не очень больно! И в противоположную сторону.
* * *
Но надо все-таки начать с первой встречи. По-человечески начать, просто и честно. Ну, например, хотя бы так:
«Впервые я встретил Николая Рубцова не помню, где и с кем…», – и закончить так же правдиво: «Не помню, когда видел его в последний раз… А он, наверное, и подавно не помнит…»
Но ладно, хватит ерничать да изголяться! Нужно следовать событиям, ибо они основополагающи, а мои переживания, суждения-рассуждения вторичны и субъективны.
Но сдается: кроме меня, поведать об очевидном нынче уже, к сожалению, некому. Очень, очень жаль!
Но, увы, всех не пережалеешь, даже себя самого… Но постараюсь в своем сочинении пожалеть хотя бы Николая Рубцова, ибо мало его жалели в жизни сей, да и после жизни тоже.
Общежитие Литературного института. Жуткие, пустотно-паучьи коридоры. Мертвый зырк замочных скважин. Яркая тьма и тусклый свет, – и безумный покойницкий голос человека с забытым лицом и прозвищем, скандирующего в заплеванном коридорном углу неведомые стихи:
Придумали – то ступор, то депрессию!
А мне одно покоя не дает:
Как бился Достоевский в эпилепсии?!
Как падал Гаршин в лестничный пролет?!
Ущербный гогот будущего самоубийцы и скрежет ключа за испуганной дверью. И сразу всплывает в памяти:
Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гранитным громом грянуло с небес!
В трущобный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез…
Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!..
Но тогда я не знал этих стихов, и о Рубцове ничего не слышал, а опьяненный триумфальным поступлением и вселением в общежитие Литературного института имени Алексея Максимовича Горького при Союзе писателей СССР (так громоздко, для большей значимости, любили иные школяры прописывать свой обратный адрес на письмах в родную глухомань), слонялся по полупустому зданию в преддверии неведомой жизни. Приехал я в столицу по каким-то причинам загодя, до начала занятий, – и откровенно заскучал от бездействия и одиночества.