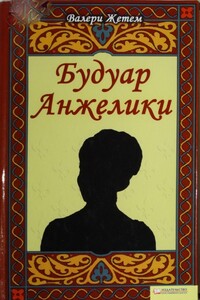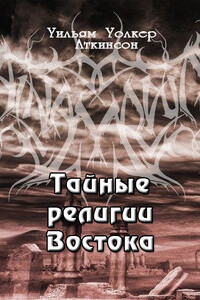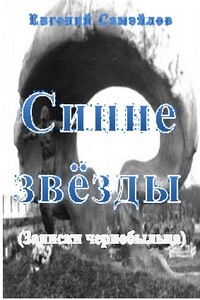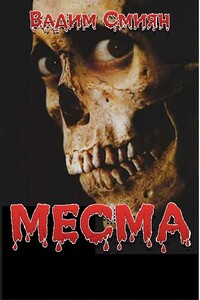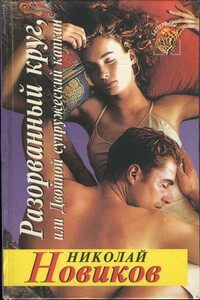Сюрприз блошиного рынка
Вместо предисловия
Вот уже который год… да, этой зимой будет ровно пятнадцать… я бываю в Париже лишь наездами, в отпуске или в командировках, все остальное время исполняя обязанности референта нашего консульства в Санкт-Петербурге — родном городе моего деда, которого в начале 20-х годов прошлого уже столетия прихотливая судьба забросила на французскую землю.
Париж тогда приютил изгнанника, стал второй родиной, наделил прелестной женой, подарившей ему двух дочерей: одна из них — моя мать, а вторая — тетушка Катрин, которая теперь живет одна в доме на площади Вогезов, где прошло ее и моей матери — упокой, Господи, ее душу — детство и куда я всегда возвращаюсь из своих странствий.
В этом доме, казалось бы, ничего не изменилось с бабушкиных времен, только диван в стиле Людовика XIV несколько раз обновил обивку да окончательно изъеденные молью плюшевые шторы уступили место креповым. По-прежнему в простенке между двумя высокими окнами стоит пузатый комод времен, наверное, Третьей империи, где в верхнем ящике хранятся бережно завернутые в чистую холстину погоны штабс-капитана, чей внук, весьма вероятно, теперь довольно часто проходит мимо его родового гнезда в Санкт-Петербурге…
Я раз и навсегда приказал себе исключить эту тему из круга своих интересов, потому что не приемлю погони за несбыточным, в особенности после 1992 года, когда погибла в автокатастрофе моя жена Мадлен и я как нельзя более наглядно убедился в бренности всего сущего.
Честно говоря, я терпеть не могу музеи (исключая художественные, естественно), потому что там невозможен прямой контакт с вещами, которые становятся еще более мертвыми, чем люди, когда-то владевшие ими. Связь времен наиболее, пожалуй, ярко и выразительно проявляется отнюдь не в залах музеев, а в таких презираемых снобами местах, как ветошные, или, как их еще называют, блошиные рынки.
Именно там вещи, по тем или иным причинам выпавшие из своего времени, с нетерпением ждут тех, кто согласится стать их новыми хозяевами и таким образом возвратит им утраченную жизнь.
В Петербурге есть роскошный блошиный рынок, и не один, но я, как сотрудник консульства, не имею права посещать там подобные места, по крайней мере подчиняясь должностным инструкциям.
Иное дело — Париж! Здесь я у себя дома и — что немаловажно — являюсь частным лицом с неограниченными правами посещать любые не запрещенные законом места.
И вот, едва распаковав вещи после очередного возвращения домой, я мчусь туда, где невдалеке от Porte de Clignancourt, конечной станции четвертой ветки метро, раскинулась мекка всех моих единомышленников, да и просто людей, желающих ощутить связь времен, — Les Puces de Saint-Ouen, или Блошиный рынок Сент-Уан. Там, на его семи гектарах, бесчисленное множество вещей всматривается, подобно брошенным собакам, в каждого прохожего с робкой надеждой на то, что он заметит, задержит шаг и… милостиво подарит новую жизнь взамен утраченной…
Вот кирасирская сабля без ножен, потемневшая, с расщепленной рукоятью, лежит на истертой подстилке обнаженная, будто полонянка на невольничьем рынке, и прохожие смущенно отводят глаза, понимая, что это не просто полоса металла, а благородное оружие, над которым безбожно поглумились.
Трехсвечный канделябр позеленевшей меди отрешенно ждет часа своего избавления от власти косоглазой торговки, навесившей на него картонку с надписью «Свитильник»…
Кресло с гнутыми подлокотниками и очень высокой резной спинкой, напоминающее королевский трон, по крайней мере пробуждающее в глубинах сознания мысли о великом… которому, впрочем, по словам Наполеона Первого, до смешного — один шаг.
И действительно — не более чем в одном шаге от него висит на вешалке костюм Арлекина — из белого атласа, с огромными голубыми пуговицами и высоким колпаком, а рядом — на той же вешалке — набор клоунских масок…
Помятая валторна, старый телефонный аппарат, деревянная фотокамера, пресс-папье, наверное, времен Мопассана, того же примерно возраста стетоскоп, полевой бинокль, каминные щипцы, трость без набалдашника, клетка для пернатой живности и еще много такого, о чьем предназначении можно лишь строить догадки.
Но каждая из этих вещей уникальна, что так немало значит на фоне глобальной похожести. Я понимаю, что невозможно объять необъятное, но как хочется хоть на мгновение прикоснуться и к тому пресс-папье, и к сабле, и к валторне… А сколько их ускользает от глаз, которые просто разбегаются от этого буйства… Ведь недаром же во французском языке существует такой глагол, как «chiner», — для обозначения процесса поиска интересных вещей на блошиных рынках!
И вдруг я замер, увидев невдалеке по-девичьи стройную старую женщину, которая стояла, прислонившись к дереву и вперив неподвижный взгляд куда-то поверх людей, заборов и крыш соседних домов. Она, несомненно, была очаровательна в не столь уж отдаленные времена, да и сейчас сияла той неувядающей одухотворенной красотой, которая смотрит с полотен великих мастеров.
Приблизившись, я заметил, что ее губы дрожат, а тонкие руки беспрестанно теребят кружевной платочек безукоризненной чистоты. Одета она была опрятно, даже изящно. Все это позволяло сделать вывод о том, что эту женщину привела сюда, на это торжище, лишь особая, крайняя необходимость, далеко выходящая за рамки удовлетворения личных потребностей.