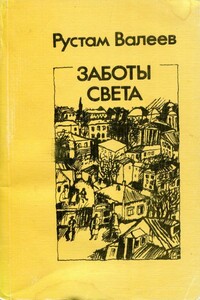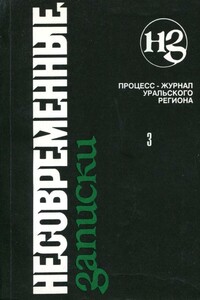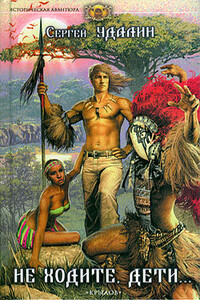1
Они шли, впереди была теплая мгла…
В благостной тихой пустоте узкой улочки, у иссохшего забора с перевесившимися через него тяжкими, зелеными и чуть припыленными кипами сирени, они обнялись, томясь, изнемогая от близкого незамирающего блеска глаз и ощущения обоюдной силы; их томило счастье и горечь этого окаянного счастья — он мог бы легко поднять ее к себе на грудь и нести, потом опустить и быть возле нее и долго ее любить, чувствуя каждой жилочкой трепет и волненье, и слезы покоя, и счастливый смех, и слыша заранее и понимая какие-то очень хорошие слова, которые вот-вот скажутся…
Они расстались, когда им приближалось к двадцати (нам уже восемнадцать, говорили они горестно и отчаянно, уже под двадцать, а ни черта еще не сделано!), и долгие годы разделяли их, а встретились, когда им не было еще тридцати (до тридцати — боже ты мой! — надо было жить да жить целых два года).
Долгие годы разделяли их, они любили друг друга, не так, правда, как Ромео и Джульетта, потому что им надо было еще и просто жить и испытывать натиск разнообразных многочисленных забот, создающих такую круговерть суеты, что не всякому в наш быстрый век из нее выбраться.
Ни он, ни она не достигли за эти долгие годы высокого положения, и уже усмешка стала мелькать на губах у них, когда они вспоминали невообразимо смелые мечты ранней юности; не сделали открытий, кроме разве одного — жить им друг без друга очень плохо.
…Она очень медленно, украдкой от него, повернула голову и глянула туда, — но он глянул тоже, — где наполовину была растворена ветхая калитка и где два окна, выходящие на улицу, сохраняли на себе тусклый отсвет вечера. Когда они посмотрели потом друг на друга, содрогнулись — от близости домика, от мысли об уюте и обыкновенном счастье, которым счастливы тысячи людей.
— Туда нельзя, — сказала она тихо, и жалуясь, и наряду с этим давая ему понять, что ей приходится быть непреклонной.
Был в Тихгороде домик, где когда-то они жили вместе, где вместе жили их матери, а теперь — Рустем с матерью, вместе, одиноко. А вот другой домик, в котором она поселилась недавно и обещала хозяйке, строгой, как все хозяйки, своевременный расчет и спокойное, благообразное пребывание здесь.
Невдалеке, за дворами и палисадниками, за тихой рекой, за грохочущими шоссе, за небольшим заводцем, двор которого обнесен дощатой оградой и к которому плотно протоптана довольно широкая тропа, обрамленная молодыми, но уже высоко вскинутыми тополями, — была степь, таинственная ковыльная земля сокровенной полудетской поры, на которую они боялись ступить легкодумно, просто для прогулок и забав. Им хотелось ступить на эту бескрайнюю землю однажды, когда они отправятся жить дальше и делать большие и очень необходимые дела где-то там, далеко — неизвестно где, известно только, что сперва в своей стране, а потом, может быть, в Египте или в Индии…
— Идем в степь, — сказал он.
— Идем, — просто и грустно сказала она.
И вот они шли. Впереди была теплая недвижная мгла, но в иную минуту легкое веянье касалось их лиц; это, может, дышала нагоряченная за день земля или уходили из ковылей прилегшие там и вспугнутые теперь сомлевшие ветры. Но даже этого легкого веянья хватало, чтобы ощутить впереди далекий ковыльный и звездный простор. Они были счастливые и усталые от этого ощущения.
Они шли и часто спотыкались о скользкие бугорки и оступались в уемы, тоже скользкие, закрытые теменью, и едва не падали, он крепче сжимал ее руку, и сна крепче сжимала ему руку.
— Постой, — сказала она. — Постой же, Рустем! — шепотом сказала она, и легкое родное веянье коснулось его лица.
Они остановились, обернулись назад, в сторону города, и зажмурили глаза от белого сильного света, полыхающего над степью.
Они спотыкались и оскальзывались-то потому, что часто оглядывались назад, а потом, когда опять трогались вперед, ничего перед собой не видели.
Целые исчезнувшие годы были между ними. И она сказала:
— У нас было только хорошее. Правда?
— Всякое у нас было.
— Нет-нет, — тихо простерла она руки к нему. — Когда мы были вместе… у нас было только хорошее. Правда?
— А когда не вместе, всякое у нас было. — Он сказал это очень мягко и погладил ее по щеке, потом по плечу, и оно дрогнуло, приникло к ладони. — Но мы ни в чем не будем упрекать друг друга. Других мы тоже не будем упрекать. И тогда все у нас будет хорошо.
Они тронулись дальше, не оглядываясь больше назад, и глаза их привыкли к темноте, и впереди подрагивала звездочка, то ли уж сорвавшаяся с неба и бьющаяся в ковылях, то ли еще в небе; впереди различалась мутная белесость ковылей, а потом смутно, каким-то хряпким виденьем возник валун. Они подошли к валуну. Рустем потрогал его бока ладонью, они были шершавы и теплы.
Они сели, прислонившись к валуну спиной. Он обнял ее.
Сейчас он мог наслаждаться — он был в глубине степи, ему некуда было спешить, с ним была Жанна, и от него ей тоже некуда было идти. Здесь он мог вспомнить и пережить детство, мог повторить самую раннюю юность и мог подняться ступенькой выше и стать гораздо мудрее и чище, ощутив чистую и мудрую близость с человеком, который дороже всех, всего.