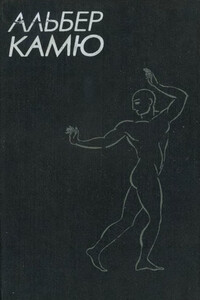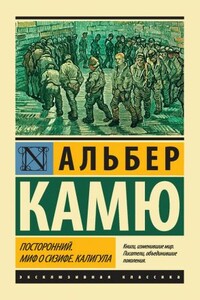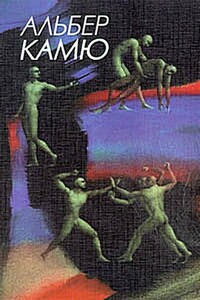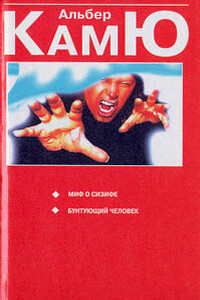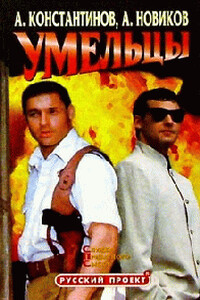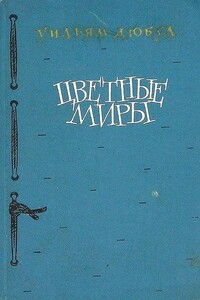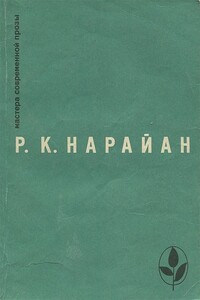Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, синего, без отбелей, неба, руин, утопающих в цветах, и кипени света на грудах камней. В иные часы все вокруг черно от слепящего солнца. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме дрожащих на ресницах капелек света и красок. От густого запаха ароматических трав, который стоит в знойном воздухе, першит в горле и нечем дышать. Я едва различаю черную громаду Шенуа, который вырастает из окружающих селение холмов и тяжелой, уверенной поступью спускается к морю.
Мы едем через селение, откуда уже видна бухта. Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире. Повсюду из-за стен вилл выглядывают бугенвиллеи; в садах — еще бледные кетмии, которые скоро станут пурпурными, и море чайных роз, пенящихся, как взбитые сливки, в обрамлении нежно-лиловых ирисов на длинных стеблях. Каждый камень излучает тепло. Когда мы выходим из автобуса, сверкающего, как начищенная золотая пуговица, мясники в своих красных машинах, как обычно по утрам, объезжают селение, сзывая жителей гудками сирен.
Слева от порта лестница из каменных плит, не скрепленных цементом, ведет к руинам через заросли дрока и мастиковых деревьев. Дорога проходит мимо маленького маяка и теряется в полях. От самого подножия этого маяка какие-то большие мясистые растения с фиолетовыми, желтыми и красными цветами спускаются к первым скалам, которые море целует взасос. Мы стоим на солнце, обдуваемые легким ветром, который касается холодком одной стороны лица, и смотрим, как с неба нисходит свет и море, без единой морщинки, улыбается своей белозубой улыбкой. Прежде чем вступить в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж, как сторонние зрители.
Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо. Мы идем навстречу любви и желанию. Мы не ищем поучений, проникнутых горькой философией, которых обычно ждут от всего величественного. Все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым. Что до меня, я не стремлюсь бывать здесь в одиночестве. Часто я приезжал сюда с теми, кого любил, и я читал в их чертах светлую улыбку, которой здесь озаряется лик любви. Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря. Сочетавшись с весной, руины опять стали камнями и, утратив наведенную людьми полировку, вновь приобщились к природе. Чтобы отпраздновать возвращение этих блудных сыновей, природа щедро рассыпала цветы. Между плит форума гелиотроп просовывает свою круглую белую головку, и красные герани обагряют кровью то, что некогда было домами, храмами и городскими площадями. Подобно тому как иных ученых наука вновь приводит к боту, столетия вновь привели руины в обитель их матери. Ныне их наконец покидает их прошлое, и ничто уже не мешает им покориться той властной силе, которая увлекает свободно падающее тело.
Сколько часов провел я, топча полынь, ощупывая теплые камни и пытаясь согласовать свое дыхание с бурными вздохами мира! Одурманенный дикими запахами и дремотным жужжанием насекомых, я приемлю взором и сердцем невыносимое величие знойного неба. Не так-то легко стать самим собой, вернуть утерянную внутреннюю гармонию. Но, глядя на массивный хребет Шенуа, я неизменно испытывал странное успокоение. Я начинал дышать глубоко и ровно, я обретал душевную цельность и полноту. Я поднимался то на один, то на другой склон, и каждый раз меня ждало вознаграждение, как, например, этот храм, колоннами которого расчислен бег солнца, а со ступеней видно все селение с его белыми и розовыми крышами и зелеными верандами. Или эта базилика на Восточном холме: ее стены сохранились, а вокруг нее широким кольцом тянутся раскопанные саркофаги, по большей части едва обнажившиеся, еще причастные к земле. Прежде в них покоились мертвые, а теперь растут желтые левкои и шалфей. Сент-Сальса — христианская базилика, но стоит посмотреть в любой пролом, как, изгоняя чувство отрешенности, до нас доносится мелодия мира: склоны усажены соснами и кипарисами, а в каких-нибудь двадцати метрах белеет барашками море. У холма, на котором возвышается Сент-Сальса, плоская вершица, и от этого ветер свободнее бродит в портиках храма. Под лучами утреннего солнца блаженством дышит простор.
Нищи те, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами, по которым текут дни, или вехами, отмечающими их течение. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот это красное, это синее, это зеленое. Это море, горы, цветы». И к чему мне упоминать о Дионисе, чтобы сказать, что я люблю, раздавив пальцами, подносить к носу почки мастикового дерева? И Деметре ли посвящен тот древний гимн, который потом сам собою пришел мне на память: «Счастлив тот из живущих на земле, кто видел это». Видеть, и видеть земное, — как можно забыть этот завет? Участникам Элевзинских мистерий достаточно было созерцать. Я знаю, что даже здесь я никогда до конца не сближусь с миром. Мне нужно раздеться донага и броситься в море, растворить в нем пропитавшие меня земные запахи и своим телом сомкнуть объятия, о которых издавна, прильнув устами к устам, вздыхают земля и море. Я вхожу в воду, словно в холодную смолу, и у меня перехватывает дыхание; потом ныряю; шумит в ушах, течет из носу, горько во рту, и я плыву — руки взлетают из воды, блестящие, будто покрытые лаком и позлащенные солнцем, сгибаются и опускаются, играя каждым мускулом; вода струится вдоль тела, я с шумом отталкиваюсь ногами, попирая волну, и — нет предо мной горизонта. На берегу я падаю на песок, вновь обретая тяжесть костей и плоти, и безвольно лежу, одуревший от солнца, изредка поглядывая на свои руки и следя, как с них скатываются капельки воды и там, где кожа высыхает, показываются золотистый пушок и пятнышки соли.