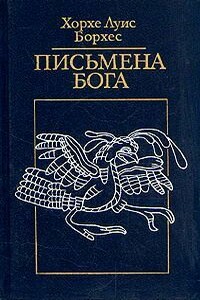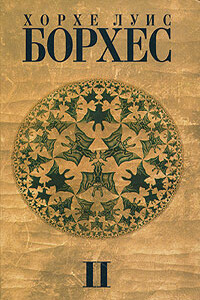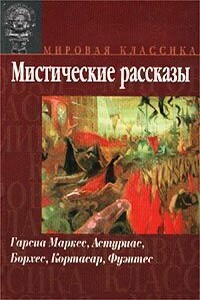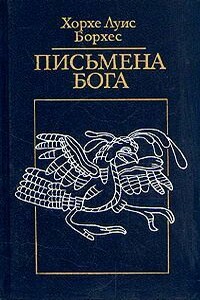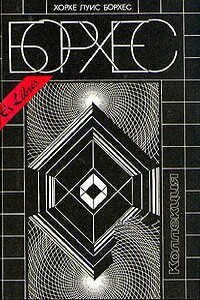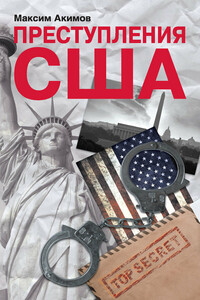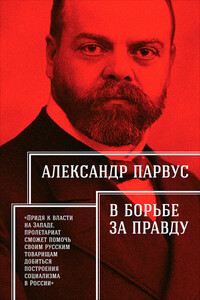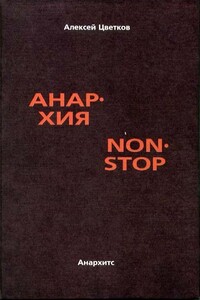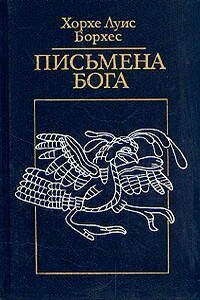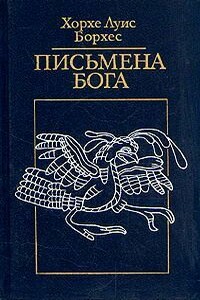Поль Клодель однажды написал фразу [1], которая недостойна его, о том, что видения, ожидающие нас после смерти тела, несомненно, не похожи на изображенные Данте Ад, Чистилище и Рай. Это любопытное наблюдение Клоделя в статье, во всех остальных отношениях замечательной, может быть объяснено двояко.
Во-первых, в этом замечании мы видим доказательство того, что, прочтя поэму, читая ее, мы начинаем думать, что Данте представляет себе мир иной в точности, как изображает.
Мы неизбежно приходим к мысли, что после смерти Данте думал очутиться у опрокинутой горы Ада, или на террасах Чистилища, или в концентрических небесах Рая. Думал, что он встретится с тенями (тенями классической античности) и некоторые из них станут разговаривать с ним итальянскими терцинами.
Это явная бессмыслица. Клодель имеет в виду не то, что кажется читателям (поскольку, обдумав, они понимают абсурдность замечания), а то, что они чувствуют и что может помешать им получить удовольствие, подлинное удовольствие от чтения.
Тому есть множество доказательств. Одно из них принадлежит сыну Данте. Он говорит, что отец собирался изобразить жизнь грешников под видом Ада, жизнь кающихся – под видом Чистилища и жизнь праведников, рисуя Рай. Он понимал это не буквально. Кроме того, существует свидетельство Данте в письме к Кангранде делла Скала [2]. Письмо считается апокрифом, но, как бы то ни было, оно не могло быть написано много позже смерти Данте и является верным свидетельством эпохи. В нем утверждается, что есть четыре способа прочтения «Комедии». Один из них – буквальный, другой – аллегорический. В соответствии с последним, Данте – это символ человека, Беатриче – веры и Вергилий – разума.
Идея текста, дающего возможность множества прочтений, характерна для средних веков, противоречивых и сложных, оставивших нам готическую архитектуру, исландские саги и схоластическую философию, в которой все служило предметом споров. Они, кроме того, дали нам «Комедию», которую мы не перестаем читать и которая не перестает нас поражать; ее протяженность больше нашей жизни, наших жизней, с каждым поколением читателей она становится все богаче.
Здесь уместно вспомнить Иоанна Скота Эригену, говорившего, что Писание содержит бесконечное множество смыслов и его можно сравнить с переливами на развернутом павлиньем хвосте.
Еврейские каббалисты утверждали, что Писание создано для каждого из правоверных; с этим можно согласиться, если вспомнить, что творец текста и читателей один и тот же – Бог. Данте не обязательно было полагать, что изображенные им картины соответствуют реальному образу мира мертвых. Нет, Данте не мог так думать.
Однако простодушная мысль, что мы читаем достоверный рассказ, способствует тому, что чтение нас захватывает. Я знаю, меня считают читателем-гедонистом; я никогда не читаю книг только потому, что они древние. Читая книги, я получаю эстетическое удовольствие и не обращаю большого внимания на комментарии и критику. Когда я впервые читал «Комедию», меня захватило чтение. Я читал ее, как и другие, менее известные книги. Я хочу рассказать вам, как своим друзьям (обращаюсь не ко всем вам, а к каждому из вас), историю своего знакомства с «Комедией».
Это произошло незадолго перед диктатурой. Я работал в библиотеке в квартале Альмагро [3], а жил на Лас Эрас и Пуэйрредон и должен был совершать долгие поездки в медленных и пустых трамваях от этого северного квартала в южный Альмагро, до библиотеки, расположенной на Авенида Ла Плата и Карлос Кальво. Случайно (хотя, возможно, не случайно, возможно, то, что мы именуем случаем, объясняется нашим незнанием действия механизма причинности) мне попались три маленьких томика в книжном магазине Митчелла, теперь исчезнувшем, о котором у меня сохранилось столько воспоминаний.
Эти три тома (мне следовало бы захватить сегодня один как талисман) были книги Ада, Чистилища и Рая, переведенные на английский Карлайлем, но не Томасом Карлайлем, о котором речь впереди. Книги, изданные Дентом [4], были необыкновенно удобны. Томик умещался в моем кармане. На одной странице был напечатан итальянский текст, на другой – подстрочный английский перевод. Я поступал следующим образом: сначала читал строфу, терцину, по-английски, прозой, а затем ту же строфу, терцину, по-итальянски. После этого я читал всю песнь по-английски и затем по-итальянски. За это время я понял, что переводы не могут заменить подлинника. Перевод может служить в лучшем случае средством и стимулом, чтобы приблизить читателя к подлиннику; по крайней мере, если речь идет об испанском. Мне кажется, Сервантес в каком-то месте «Дон-Кихота» говорит, что по двум октавам тосканского можно понять Ариосто.
Эти две октавы тосканского наречия были мне даны родственной близостью итальянского и испанского. Тогда же я понял, что стихи, особенно великие стихи Данте, содержат не только смысл, а многое еще. Стихотворение – это, кроме всего прочего, интонация, выражение чего-либо, часто не поддающегося переводу. Это я заметил с самого начала. Когда я добрался до безлюдного Рая, до вершин Рая, где Вергилий покидает Данте, а тот, оставшись один, взывает к нему, в тот самый момент я почувствовал, что могу читать итальянский текст, лишь изредка заглядывая в английский. Так я читал эти три томика во время медленных трамвайных путешествий. Потом я читал и другие издания.