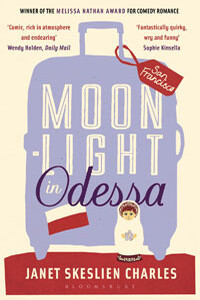Париж, февраль 1939 года
Числа плывут в моей голове, как звезды. 823. Числа были ключом к новой жизни. 822. Созвездиями надежды. 841. В моей спальне поздно ночью, утром, по дороге за круассанами, серия за серией: 810, 840, 890 – они возникали перед моими глазами. Они олицетворяли свободу, будущее. А вместе с числами я изучала историю библиотек, начиная с 1500-х годов. Пока в Англии Генрих VIII был занят тем, что рубил головы своим женам, наш король Франциск I модернизировал свою библиотеку, которую открыл затем для ученых. Его королевская коллекция стала началом Национальной библиотеки. Теперь, сидя за письменным столом в своей спальне, я готовилась к рабочему собеседованию в Американской библиотеке, в последний раз просматривая свои заметки: основана в 1920 году, первой в Париже допустила читателей в хранилища, получает издания более чем из тридцати стран, четверть всего – из Франции. Я крепко держала в памяти эти факты и числа, надеясь, что они помогут мне выглядеть перед директрисой вполне квалифицированной.
Я вышла из нашей квартиры на закопченной рю де Ром, напротив вокзала Сен-Лазар, где локомотивы кашляли дымом. Ветер трепал мои волосы, и я заправила их под шерстяной берет. Вдали я видела эбонитовый купол церкви Святого Августина. Религиозные учения, 200. Ветхий Завет, 221. А Новый Завет? Я подождала, но число не появилось. Из-за волнения я забывала простые факты. Достала из сумки блокнот. Ах да, 225. Я же это знала!
Моей любимой темой при изучении библиотечного дела была десятичная классификация Дьюи. Ее придумал в 1873 году американский библиотекарь Мелвил Дьюи. В этой классификации использовались десять классов для организации библиотечных книг на полках в соответствии с темами и имелись номера для всего, что позволяло любому читателю найти любую книгу в любой библиотеке. Например, маман гордилась своими знаниями в числе 648 (домашнее хозяйство). Папа́ это не интересовало, но он искренне наслаждался числом 785 (камерная музыка). Мой брат-близнец склонялся к числу 636.8, а я предпочитала 636.7 (кошки и собаки соответственно).
Я дошла до Больших Бульваров, где посреди кварталов город сбрасывал с плеч рабочую одежду и надевал норковую шубку. Тяжелый запах угля рассеялся, сменившись сладким жасминовым ароматом, исходившим от женщин, которые восхищались витринами с платьями от Нины Риччи и зелеными кожаными перчатками от «Кислав». Потом я обогнула музыкантов, толпившихся вокруг магазина, где распродавали помятые листы нот, миновала здание в стиле барокко, с синей дверью, и повернула за угол, на узкую боковую улочку. Дорогу я знала наизусть.
Я любила Париж, город со множеством тайн. Подобно книжным переплетам, то кожаным, то коленкоровым, каждая парижская дверь вела в непредсказуемый мир. Во внутренних двориках могли обнаружиться велосипеды или пухлая консьержка, вооруженная метлой. В случае библиотеки массивная деревянная дверь открывалась в потайной садик. Посыпанная белым гравием дорожка, окаймленная петуниями с одной стороны и лужайкой с другой, вела к особняку из камня и кирпича. Я перешагнула порог под французским и американским флагами, развевавшимися бок о бок, и повесила жакет на старую настенную вешалку. Вдыхая лучший в мире запах – смесь ароматов слегка заплесневелых старых книг и свежих хрустящих газетных листов, – я почувствовала себя так, словно пришла домой.
Поскольку до времени встречи оставалось еще несколько минут, я обогнула абонементный стол, за которым неизменно добродушная библиотекарь выслушивала читателей. «Где вообще в Париже парень может найти хороший бифштекс?» – спрашивал новичок в ковбойских сапогах. «Почему это я должна платить штраф, если даже не дочитала книгу?» – сварливо интересовалась мадам Симон. И наконец я вошла в тихий и уютный читальный зал.
За столом у французского окна профессор Коэн читала газету, из скрученных узлом волос беспечно торчало павлинье перо, а мистер Прайс-Джонс, попыхивая трубкой, задумался над «Таймс». В обычном случае я бы поздоровалась, но, нервничая из-за собеседования, предпочла спрятаться среди полок в любимой секции. Мне нравилось находиться в окружении разных историй, отчасти древних, как само время, отчасти изданных лишь в прошлом месяце.
Я подумала, что могла бы поискать роман для моего брата. В последнее время я все чаще и чаще в любой час ночи могла проснуться оттого, что он щелкает по клавишам пишущей машинки. Если Реми не писал статьи о том, как Франция должна помогать беженцам, изгнанным из Испании гражданской войной, он писал о том, что Гитлер намерен захватить всю Европу так же, как захватил часть Чехословакии. Единственным, что могло заставить Реми забыть о его тревогах – тревогах за других, – была хорошая книга.
Я провела пальцами по корешкам. Доставая книги одну за другой, я стала открывать их наугад. Я никогда не судила о книге по ее началу. Это ощущалось бы как первое и последнее свидание, которое однажды мне выпало, – мы оба улыбались уж слишком весело. Нет, я открывала книгу на середине, где автор уже не старался произвести на меня впечатление. «Есть в жизни тьма, а есть и свет, – прочла я. – И ты – это свет, свет всего света». Oui. Merci, мистер Стокер. Это я и сказала бы Реми, если бы могла.