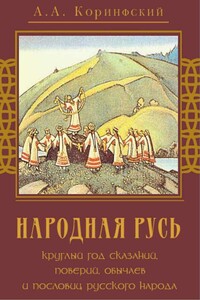В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день – «по семейным обстоятельствам». Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся.
Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился: вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я «был рядом в последний день, когда он расстается с домом», – это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче – четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня, после обеда, должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку сегодня я не могу к тебе отпустить», – тогда он и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный, из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и, не исключено, что-то путаю. Но в том, что он говорил это, я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому.
Отец и мне трубку дал ненадолго; но что я сказал матери, не помню. Думаю, она даже обиделась на меня, потому что я не очень-то был с ней разговорчив
– из-за того, что отец стоял рядом: в конце концов, сегодня мне ведь надо стараться ему угодить. Когда я уходил, мачеха тоже решила сказать мне несколько слов, в прихожей, без свидетелей. Она, видите ли, надеется, что в этот день, такой печальный для всех нас, «я буду вести себя надлежащим образом». Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Но, кажется, мое молчание она восприняла как-то не так – и стала толковать что-то в том роде, что она вовсе не сыновние мои чувства имеет в виду, сказав про поведение: тут, она знает, советы излишни. Она ни капли не сомневается, что такой взрослый мальчик – все-таки мне как-никак пятнадцатый год – сам способен понять, какой тяжелый удар нас постиг, – так она выразилась. Я кивнул. И увидел, что ей этого вполне достаточно. Руки ее потянулись было ко мне, и я уже испугался, что она собирается меня обнять. Но она не закончила движение, лишь глубоко-глубоко вздохнула, продолжительно, с дрожью. Я заметил, что глаза у нее слегка блестят от влаги. Мне стало неприятно. Потом я ушел.
От школы до лавки я добирался пешком. Утро было солнечное, совсем теплое для начала весны. Мне хотелось расстегнуть куртку, но я подумал: все-таки ветерок дует, хоть и несильный, еще откинет на сторону полу – и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным. Наш дровяной склад находится недалеко от дома, в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в полумрак. Отца с мачехой я нашел в конторке – тесной клетушке с застекленной стеной, у подножья лестницы, с освещением, будто в аквариуме. С ними был господин Шютё; его я знаю еще с того времени, как он служил у нас счетоводом и занимался делами второго нашего склада, что под открытым небом; недавно тот склад он у нас купил. Так, по крайней мере, мы всем говорим. Дело в том, что у господина Шютё с чистотой крови все в порядке, желтую звезду ему носить не надо, и, как я понимаю, эта «покупка» – всего лишь коммерческая хитрость: теперь он отвечает за часть нашего состояния, ну а у нас пока сохраняется хотя бы доля доходов.
Правда, сейчас здороваюсь я с ним все же не совсем так, как раньше: ведь что там ни говори, а в каком-то смысле он теперь выше нас; отец с мачехой тоже стали с ним обходительнее. Он же упорно называет отца «хозяин», а мачеху – «милостивая сударыня», словно ничего не произошло, и не упускает случая поцеловать ей ручку. Со мной он тоже разговаривает в прежнем, шутливом тоне. Мою желтую звезду он вообще вроде не замечает. Я встал у двери и зажмурился на минутку: в глазах еще плавали круги от яркого солнечного света; взрослые продолжали прерванный моим приходом разговор. Кажется, они обсуждали что-то важное. Сначала я вообще не понимал, о чем идет речь. Отец, кажется, убеждал в чем-то господина Шютё; как раз когда я открыл глаза, тот ему отвечал. На смуглом, круглом лице бывшего нашего счетовода, с тонкими усиками и широкой щелью между двумя передними зубами, бегали желтовато-красные, словно созревшие чирьи, солнечные зайчики. Следующую фразу снова произнес отец: речь шла о каком-то «товаре»: лучше всего, если господин Шютё «сразу заберет его с собой». У господина Шютё возражений в общем не было, и тогда отец достал из ящика стола плоский бумажный сверточек, аккуратно перевязанный шнурком. Тут только я догадался, о каком «товаре» идет речь: в бумагу завернута была шкатулка, в которой лежали наши драгоценности и все такое. Думаю, «товаром» они это называли из– за меня, чтобы я не догадался. Господин Шютё тут же положил сверток себе в портфель. Но потом у них произошел небольшой спор: господин Шютё вынул было свою авторучку, чтобы написать «расписку» – в том, что он взял «товар» на хранение. Он долго на этом настаивал, а отец только отмахивался, мол, «не валяйте дурака», полно, «мы же свои люди». Как я заметил, господину Шютё слышать это было очень приятно. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, вы мне доверяете, но в практической жизни для всего есть свой порядок, все должно идти как заведено». Он даже к мачехе моей обратился за поддержкой: «Не так ли, милостивая сударыня?» Но та лишь улыбнулась устало и ответила ему, ах, мол, такие вопросы пускай мужчины решают сами.