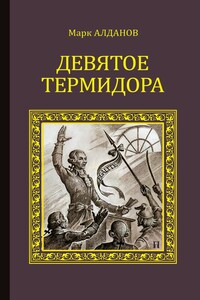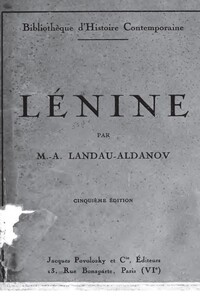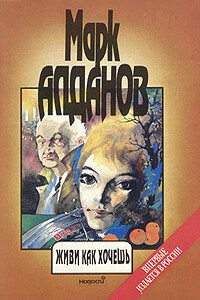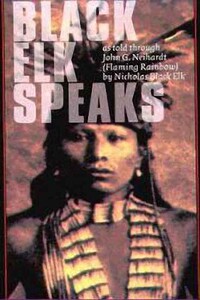Несколько лет тому назад профессор де Лоне, член французской Академии наук, напечатал в «Ревю де Франс» интереснейшие письма, относящиеся к эпохе террора. Письма эти извлечены из семейного архива, но профессор не назвал фамилий. Семья, о которой идет речь, обозначена им буквой С{1}. Состояла она из отца, матери, сына, двух дочерей и гувернантки. Большая часть писем написана гувернанткой: отец был в отсутствии, гувернантка, видимо, по общему поручению сообщает ему, как они все живут и как себя ведет ее воспитанница, младшая дочь, 14-летняя Эмили, по домашней кличке «Зигетт».
Об этом документе, еще почти не использованном в исторической литературе, позволительно вспомнить в юбилейные дни. Об идеях Французской революции (вернее, ее начала) говорилось в 150-летнюю годовщину очень много. Во Франции речи и статьи были в огромном большинстве сочувственные и хвалебные, в Германии и в Италии — ругательные, в СССР — ни то ни се. Интересно, однако, что ругательные статьи исходили от высокопоставленных людей, которые едва ли могли бы добиться высокого положения, если бы мир в течение 150 лет медленно не завоевывался принципами 1789 года. Ведь родовое дворянство в наше время ни одного диктатора не выдвинуло, за исключением, быть может, Пилсудского. Ленин — сын отнюдь не знатного чиновника. Отец генерала Франко был нисколько не родовитый морской офицер. Гитлер, Сталин, Муссолини, Мустафа Кемаль, еще кое-кто вышли из общественных низов.
Это имеет отдаленное отношение к теме настоящего очерка. Скажу, что семья С, по-видимому, «левой» не была. Но не была она и дворянской. О политике в письмах ничего не говорится. Однако и в них чувствуется почти всеобщее настроение французов той эпохи: до сих пор настоящими людьми были только дворяне, теперь стали людьми и мы. Никаким «гонениям» семья, впрочем, не подвергалась и при старом строе. Отец был архитектором на королевской службе. Ему полагалась даже казенная квартира в «Отеле Инвалидов». Были они людьми с достатком. Им принадлежал в Париже доходный дом на улице св. Марка, правда, заложенный, если не перезаложенный. Была какая-то дачка в Отэй — с садом, с виноградниками. Отэй почти весь состоял тогда из виноградников, и отэйское вино очень ценилось среди людей небогатых; знатоки относились к нему с величайшим презрением. Впрочем, мнение знатоков часто менялось в течение столетий. В семнадцатом веке, например, говорили, что «бордо могут пить только свиньи».
Письма относятся к 1793—1794 годам, то есть к худшему времени террора. Но о терроре в них нет ни одного слова. В них только повседневный быт, и это делает письма ценнейшим документом. Парадные сцены Французской революции всем известны, как и исторические «восклицания». Правда, парадные сцены систематически искажались, а почти все восклицания вымышлены. Ни Дюма, ни Коффиналь не восклицали: «Республике не нужны химики!» — госпожа Роллан не восклицала: «О свобода, сколько преступлений творится твоим именем!» — аббат, провожавший на место казни Людовика XVI, не восклицал: «Взойди на небо, потомок Людовика Святого», — вообще почти никто не восклицал{2}. О быте Французской революции книг написано гораздо меньше, хоть есть старая книга Гонкуров, новая — Робике, кое-что еще. Романисту постоянно приходится вылавливать материалы из воспоминаний, особенно же (в воспоминаниях много сочиняют) из писем и дневников. В этом отношении письма семьи С. окажутся для будущих романистов кладом.
Как можно было жить в Париже в 1794 году, «не замечая» террора? Надо, разумеется, сделать поправку: не обо всем удобно было в те времена сообщать в письмах. Однако другие парижане не стеснялись, да и по тону опубликованных профессором де Лоне писем видно, что семья С. жила совершенно в стороне от гран-гиньолевских сцен Французской революции. Этому особенно удивляться не приходится.
Конечно, более гран-гиньолевскую эпоху, чем 1793— 1794 годы, и представить себе трудно. Русская революция уже пролила неизмеримо больше крови, чем французская, но она заменила Плас де ла Конкорд чекистскими подвалами. Во Франции все, или почти все, совершалось публично. Осужденных везли в колесницах на эшафот средь бела дня через весь город, и мы по разным мемуарам знаем, что население скоро к таким процессиям привыкло. Правда, в исключительных случаях, например в дни казни жирондистов, Шарлотты Корде, Дантона, особенно в день казни короля, волнение в Париже было велико. Но обыкновенные расправы ни малейшей сенсации в дни террора не возбуждали. Прохожие с любопытством, конечно, и с жалостью провожали взглядом колесницу — и шли по своим делам. Довольно равнодушно также узнавал обыватель (гадкое слово) из газет о числе осужденных за день людей: пятьдесят человек, семьдесят человек — да, много. Приблизительно так мы теперь по утрам читаем, что при вчерашнем воздушном налете на такой-то неудобопроизносимый город убито двести китайцев и ранено пятьсот. Кофейни на улицах Парижа полны и в часы казней. Даже в дни сентябрьской резни на расстоянии полукилометра от тех мест, где она происходила, люди пили лимонад, ели мороженое.