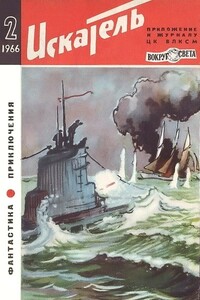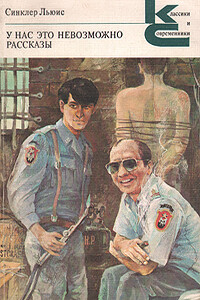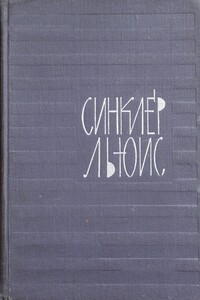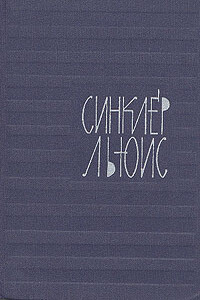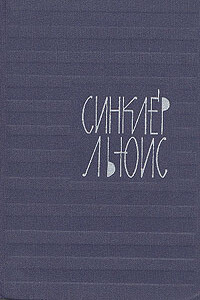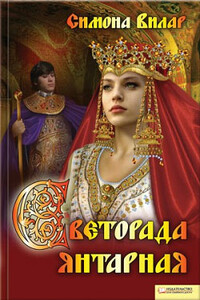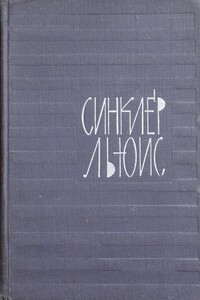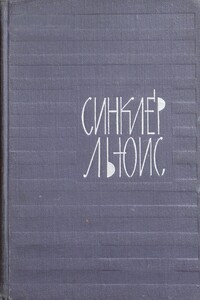Рассказывая о себе по просьбе Нобелевского фонда, я хотел бы показать, что и в моей жизни была романтика, нечто своеобразное, вроде похождений молодого Киплинга в Индии или авторитета Бернарда Шоу, когда он критиковал английскую экономику и искусство. Но, за исключением таких юношеских забав, как плавание на скотоперегонных судах из Америки в Англию во время студенческих каникул, как попытка найти работу в Панаме, когда там строился канал, и два месяца службы сторожем в Геликон-холле — неудавшейся кооперативной колонии Эптона Синклера, моя жизнь была весьма скучной: непрерывное писание, непрестанное чтение, малоинтересные путешествия в качестве туриста и несколько лет благополучного рабства в качестве редактора.
Я родился в 1885 году в поселке посреди прерий, в наиболее скандинавской части Америки — в штате Миннесота, в семье провинциального врача. Вначале я посещал обычную общеобразовательную школу вместе с многочисленными Мадсенами, Ольсонами, Нильсонами, Хединсами и Ларсенами, а потом уехал на Восток в Йельский университет. Несомненно, именно поэтому я сделал героя моей второй книги, «Полет сокола», норвежцем, а Густава Сонделиуса из «Эроусмита» — шведом. Доктора Сонделиуса я люблю больше всех своих героев.
В 1914 году, работая первую половину дня редактором в «Джордж X. Доран паблишинг компани», я по вечерам пытался создавать романы, и я так писал о Карле Эриксоне из «Полета сокола»: «Его отец был плотником, выходцем из Норвегии; сначала он работал рулевым, потом фермером в Висконсине и из Эриксена, американизовавшись, стал Эриксоном… Карл был норвежским американцем второго поколения, он родился в Америке, язык Америки стал для него родным; и внешне он был американцем, если не считать льняных волос да небесно-голубых глаз… К моменту его рождения «истинные американцы», натурализовавшиеся ранее, уже перебрались в городские дворцы или, наоборот, прозябали на глухих фермах. К этому времени уже Карл Эриксон, а не какой-нибудь Троубридж, Стивесант, Ли или Грант считался «истинным американцем». На его плечи легла задача выполнить предначертанную Америке судьбу — освоить просторы Запада; возродить суровые пуританские добродетели и вернуть яркие, напоенные осенними красками и перекличкой птиц дни Даниэля Буна; и в довершение всего его поколение или последующее должно было пробудить Америку к новым поискам и пониманию красоты».
В моем пребывании в Йельском университете не было ничего примечательного, разве что сотрудничество в «Йельском литературном журнале». Небезынтересно отметить, что все мои сочинения, опубликованные в журнале, отмечены печатью самой банальной романтики: что тот, кто в зрелые годы стремился изобразить, как люди в самой обычной обуви топчут самые обычные тротуары, в студенческую пору писал почти исключительно о Джиневре и Ланселоте, о выпи, тоскующей среди тростников Ирландии, о выдуманных писателями замках, где трубадуры предаются обильным возлияниям; короче — писал о вещах, ему совершенно неизвестных. Какой урок следует из всего этого извлечь, я не знаю. Может быть, тот, кто в девятнадцать лет бредит воображаемыми замками, к тридцати пяти возвращается на обочины Главной улицы; может быть, данный процесс происходит в обратном порядке; и насколько оба эти процесса желательны, пусть решают психологи.
После окончания колледжа я в течение двух лет работал журналистом, затем газетным репортером в Айове и Сан-Франциско, далее — как это ни странно — младшим редактором в журнале для преподавателей школ глухонемых — в Вашингтоне, округ Колумбия. Этот журнал субсидировался Александром Грэхемом Беллом, изобретателем телефона. Мое полное неведение по части преподавания глухим почти не мешало работе, поскольку должность, занимаемая мной, была более чем скромной. Каждую неделю я должен был перепечатывать сотни писем, содержащих просьбы о пожертвованиях для журнала, а в те дни, когда негритянка-уборщица не приходила, я наводил порядок в помещении редакции.
Все это, несомненно, свидетельствует о преимуществах университетского образования; и особенно наглядно проявилось это, когда в возрасте 25 лет я получил местечко в одном из нью-йоркских издательств с окладом 15 долларов в неделю! Такова была моя истинная цена на рынке рабочей силы, и я всегда не без грусти подозревал, что эта цена так бы никогда и не поднялась, если бы по чистой случайности у меня не обнаружилось способности к сочинению книг, которые так больно раздражали американское самодовольство, что у нескольких тысяч моих соотечественников возникло желание познакомиться с этими скандальными документами вне зависимости от того, нравились они им или нет.
За пять лет, прошедших со времени получения мной места в Нью-Йорке, и до того момента, когда деньги, полученные за несколько опубликованных рассказов, дали мне возможность стать свободным художником, — за эти пять лет я сменил несколько должностей, выполняя чисто канцелярскую, лишенную романтики литературную работу — в двух издательствах, в журнале («Адвенчур») и в газетном синдикате: я читал рукописи и писал, непрерывно писал рекламные объявления для книг, каталоги, скучнейшие книжные обозрения; короче говоря, в храме искусств я выполнял работу плотника и водопроводчика. И первые пять моих романов не вызвали никакого отклика: «Наш мистер Ренн», «Полет сокола», «Дело», «Простаки», «На вольном воздухе» — книги, — вышедшие в свет с 1914 по 1919 год и обреченные на забвение еще до того, как успели высохнуть чернила. У меня же не хватило обыкновенного здравого смысла уразуметь, что после пяти провалов было просто глупо продолжать заниматься сочинительством.