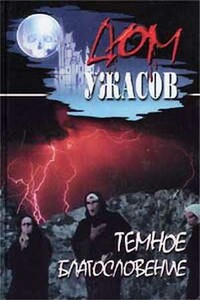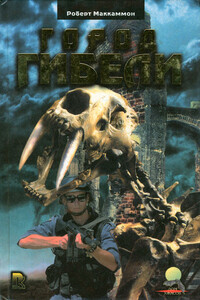Она была и останется глупым и упрямым ничтожеством. Так пусть же отныне и до конца своих дней она развлекается паучьими радостями или болтает с новыми подругами о фруктовых мошках, залетевших в паутину. Пусть эта мерзкая восьмилапая тварь больше не строит из себя мастерицу и подобие богини.
Как жаль, что я не раздавила ее каблуком. Мне надо было бросить эту дрянь в горшок с оливковым маслом. Возможно, тогда я забыла бы ее. Ах, почему пришли сомнения, и я заколебалась? Мне следовало вернуться назад и превратить ее в личинку или слизняка.
Когда они предупредили меня о ее глупых самонадеянных претензиях, я почувствовала вкус интриги и новизны. После подвига с Пегасом меня изводило безделье. По ночам мои сны наполнялись топотом мощных копыт и теплом блестящих потных боков. Я просыпалась в испарине, с соленым вкусом на губах, и меня томила жажда — жажда настоящей жизни. Время стекало с небес в мои ладони, а я все не могла успокоиться.
И вот тогда мне рассказали об этой жалкой козявке из Лидии — об этой девке с перепачканным в пудре лицом. И когда они заговорили о ее чудесном станке, я подумала, что эта ткачиха может развлечь меня. Мне захотелось немного повеселиться.
Я решила прийти к ней в обличьи старухи и взглянуть на ее холсты. Да, меня подгоняло любопытство, и я надеялась, что сцены ее полотен заслуживали путешествия в Лидию. Мне хотелось одарить эту девку каким-нибудь своевременным предостережением: «Не выступай против богов, моя милая, не злоупотребляй терпением великих!» Вот уж действительно самая благоразумная пословица века.
Утренний свет слепил глаза. По своей забывчивости я вновь не подготовилась к этому колючему сиянию, отблески которого отскакивали от деревьев, холмов и камней. Меня забавляла неотступная человеческая тень, ноя уже начинала жалеть, что явилась сюда.
Их освещение слишком откровенно. Я люблю серый цвет; мои глаза, одежда и даже мудрая сова — все серое и пристойное. Таким, как я, по нраву уклончивая тень. Нам не нужно ни позы, ни ложного блеска. Мы — те, кому больше нечего терять; кто никогда не рискует; кто осмотрителен и строг. О, тусклая тень. Я благодарна тебе за то, что ты, как и я, всегда постоянна.
Вот так я и шла по Лидии, медлительная и тяжелая от жары, словно ныряльщик, придавленный слоем воды. Мои ноги снова ступали по земле — сухой, потрескавшейся и красной. Я проходила мимо хижин и коз, которые дергались в тени деревьев и дрожали, отгоняя от себя назойливых мух. Я слышала лай собак и смех чумазых детишек.
Ее дом оказался совсем неприметным. А впрочем чего я ожидала? Геральдических эмблем? Лавровых венков и пурпурных занавесей? Сжав посох, я переступила порог с нетерпением воина, который ворвался в селение врага. Конечно, мы, боги, не знаем страха. Нам может быть трудно, тяжело и горько, но страха мы не знаем никогда.
В комнате стоял полумрак. Мне понадобилось время, чтобы глаза привыкли к темноте, которая приветствовала меня мягко и льстиво. Мой взгляд отыскал ее ткацкий станок, по раме которого ползали мухи. Я ожидала услышать оклик или шаги, но единственными звуками в доме были мое старческое сопение и жужжание насекомых.
На столе у окна лежали остатки завтрака — немного сыра, глянцевый кубок из орехового дерева, тарелка редиски и хлеб. Я знала, что надо сесть и подождать; что можно отломить кусок мучнистого хлеба и попробовать редиску, которая влекла меня своим опаляющим румянцем. Можно было выпить вина. Кувшин стоял здесь же — на грязном полу.
И хотя не чувствовалось ни одного намека на колдовство, я уловила в каждой свече и ложке, в одежде и изрезанном столе какую-то смутную угрозу. Опасность исходила даже от связок лука, висевших на стене. Но я хотела развлечений. Да и что мне еда людей? Я родилась в своих латах из головы отца! У меня было рождение, но не будет смерти. Так почему же этот кувшин и связки лука опечалили меня? Почему слеза побежала по щеке и упала на грязный стол?
— Чем я могу помочь тебе, старая женщина?
Она стояла в дверях, и ее голос кружил вокруг меня, словно тонкая паутина. О каким гадким и немощным существом она оказалась. Ее шея и плечи высохли, как корка козьего сыра; лицо сморщилось, придавая ей вид голодного альбиноса, который всю жизнь питался гнилью и падалью.
— Милая моя, ты должна показать мне свои холсты, — пропела я. — О тебе уже ходят легенды, и я пришла по этой жаре в надежде оценить твое искусство.
Она улыбнулась — нет, не улыбнулась, а скорее оскалила зубы. Да, в ее глазах сияли самодовольство и гордость. Вот же кукла — она ничего не понимала.
— Садись, — торопливо заговорила женщина. — Отдохни немного и выпей вина. Я покажу тебе все, что у меня есть. А потом ты пойдешь домой и расскажешь знакомым о рукоделии Арахны.
Она налила вина и протянула мне чашу с такой снисходительностью, с какой, наверное, давала помои своей козе.
Я усмехнулась, обнажив гнилые зубы, и с шумом всосала глоток вина. А она вытаскивала цветастые ткани из сундука, стоявшего около станка.
— Смотри!
Ткачиха развернула холст, и я увидела сельскую сцену: пастух дремал в кипарисовой роще, и у потока, сиявшего, как лед, паслись его кроткие овцы. Тень от деревьев манила глубиной; среди корней и травы росли грибы, а солнечный свет играл на каждой травинке и каждом листочке. Пастух был прекрасен, как утренний рассвет — чуть старше юноши, но статен и изящен. Его туника едва прикрывала бедра. И я до сих пор ощущаю томление, когда вспоминаю эту чарующую грань между одеждой и нежной кожей ноги.