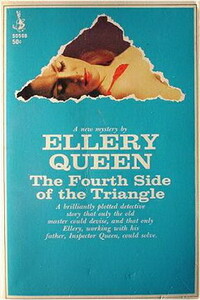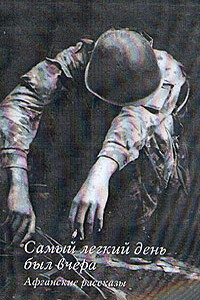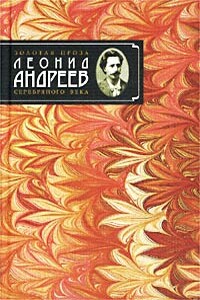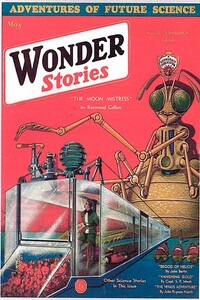В бытность мою мальчиком, некоторое время после того, как умерли мои родители, я жил с дедом, а он оказался одним из самых подлых и мерзких стариков, какие только встречаются на свете. Да вот встретиться с таким не хотелось бы никому. У него был старый домик, но в этой старине полностью отсутствовали всякий уют и привлекательность; там пахло керосином, свиным салом, осыпающимися стенами и грязной одеждой. Он являлся владельцем одной из, вероятно, самых обширных во всей тамошней округе коллекций жестяных банок, наполненных свиным салом. Я думаю, он боялся, что однажды этот жизненно важный предмет потребления станет дефицитом, и, черт побери, постарался, чтобы его это не застигло врасплох.
В старой грязной кухне стояли две плиты, керосиновая и дровяная, и хотя сухих кустов и бревен среди зарослей за домом хватило бы, чтобы отапливать дом годами, он был чертовски ленив и не желал махать топором. Та же история с одеждой. Вместо того, чтобы платить какой-нибудь женщине за стирку или, упаси Господи, заняться ею самому, он просто копил грязную одежду, а потом перебирал ее, еще и еще раз пуская в ход наименее запачканную. Время от времени доходило, наконец, до того, что никто из детей не соглашался больше сидеть рядом со мной, и тогда учитель обращался к соседкам, и одна из тех, у кого имелась стиральная машина старинного образца, работавшая на бензине, заходила к нам вместе с кем-нибудь из своих детей, прихватив с собой тачку и пару бельевых корзин.
— Не понимаю, как это можно доводить вещи до такого состояния, м-р Харкнесс, — как правило, говорила она, сморщив нос и дыша ртом. — Ну-ка, грузите эти вещи, да я их вам выстираю. Бога ради, пока они на вас не загноились! Вы же оба глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в чумном бараке. Господи помилуй!
И тогда старый кусок дерьма принимался хромать по дому, прикидываясь немощным, хотя на самом деле двигался с проворством ямайской змеи, если хотел; он хмурился, понукая меня жестами взяться за дело и быстренько вынести одежду, а все это время скулил что-нибудь вроде: «Уж, конечно, я вам очень благодарен, мисс Уоллаби…» или как ее там, к черту, звали. «Просто не знаю, как бы мы жили, не будь у нас соседей, как говорится в Божьей Книге. Я — просто бедный больной старик, и этот парень мне не по силам, такая на меня обуза свалилась на закате дней, и это несправедливо, сил моих на него нету, нету, мэм, говорю: он меня в гроб вгонит, потому как он трудиться не желает и ничего не слушает, и мне не подчиняется». И так далее, и тому подобное.
Затем, стоило ей удалиться за пределы слуха и зрения, как он усаживался в свое кресло с продавленным сидением и начинал самодовольно ухмыляться, смеяться и распространяться о том, как он всех обвел вокруг пальца, это уж точно.
— Надо просто взять и подождать, сколько потребуется, пока не пойдут слухи, и, парень, обязательно подвернется какой-нибудь несчастный дурак, который сделает всю работу! Что ж, я не против. Пускай. Им для души полезно. — И он гоготал и ржал, и сок жевательного табака «Эппл» поганил ему старые грязные усы.
У него не было ни стыда, ни гордости. Посылал меня выпрашивать еду. Все время это делал, хотя для бутлеггера у него деньги находились. И воровать тоже посылал: «Парень, только не говори, будто тебе не хочется. Это же проще простого. У тебя в кармане куртки есть та самая старая большая дырка, и от тебя только и требуется, что сунуть в карман банку сардин или банку свинины с бобами, чтобы она завалилась за подкладку, а потом просто-напросто взять себе и выйти неторопливо на улицу, держа обе руки у всех на виду. Парень, обе руки на виду у всех. Так что, парень, не надо говорить, будто тебе не хочется. Есть-то тебе хочется, верно?»
Он уже все тут обмыслил. Воровать в «Эй и Пи»[1] — дело совершенно правое, потому что «Эй и Пи» — монополия. И совершенно правое дело воровать у Ах Квонга, потому что Ах Квонг — китаец: «Съедает горсточку риса в день да рыбью голову, парень, и живет себе, а потому мы, американцы, не можем с ним конкурировать».
Так он все и говорил без умолку, а однажды, когда я «делал покупки» в магазине «И-довольствие», старый Ах Квонг поманил меня к себе. Я так испугался, что чуть не обделался. Я был уверен, что старый Ах Квонг даст мне топориком по голове, потому что раскусил меня, но он просто сунул мне в руки пакет. «Отдай своему дедусе», — сказал он. Я взял пакет и пустился чуть ли не наутек.
В пакете оказался мешочек с рыбьими головами и мешочек с рисом.
Думаете, ему стало стыдно?
— Клянусь бабульками, парень, — сказал он, облизывая свои старые слюнявые губы, — мы сделаем похлебку. Из рыбьих голов получается самая лучшая похлебка. Рис — это тоже хорошо. Рис — это штука, которая здорово легко укладывается в желудке.
Он утверждал, будто получил ранение в испано-американской войне, но политики его надули и пенсию не дали. Он утверждал, будто ездил на Юкон за золотом. Он утверждал, будто был инженером-железнодорожником, он утверждал и то и се, но, по мере того как я подрастал, становилось все ясней, что это вранье, просто вранье. Ему проще было поднапрячься и соврать, чем сказать не требующую напряжения правду. Но до меня это как-то не сразу дошло.