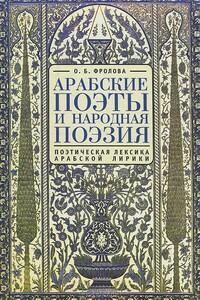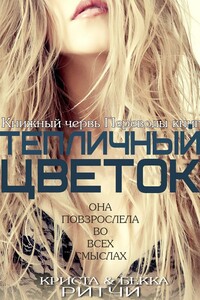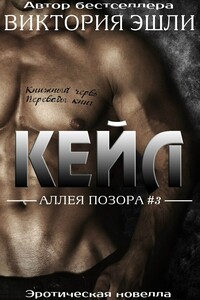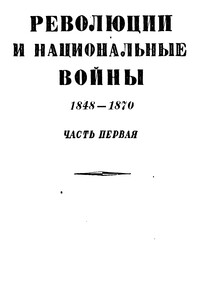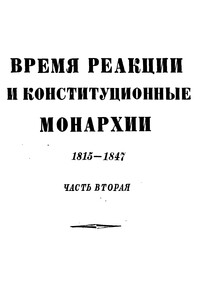Арабская лирическая поэзия прошла долгий и славный путь. Она оказала существенное влияние на поэзию европейскую. Великий Пушкин проницательно заметил, что мавры внушили европейской поэзии «исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока» [112, с. 37]. «Арабская литература,— писал английский исследователь Гибб,— подобно большинству великих литератур мира, ворвалась в жизнь могучим потоком поэзии» [38, с. 18]. С глубокой древности арабская поэзия передавалась изустно [95], и первый этап ее развития остается скрытым. В VI в., о котором имеются сведения, она предстает уже вполне сложившейся, в полном расцвете после долгого пути развития.
Письменная фиксация поэтических памятников арабов началась два столетия спустя, в середине VIII в. Крупнейшие памятники доисламской поэзии — муаллаки [220] — стихотворения самых значительных поэтов древней Аравии. Характерным жанром арабской поэзии была касыда, любовный зачин которой — насиб — явился основой для развития любовной лирики в арабской поэзии. Наиболее яркими представителями любовной лирики омейядской эпохи были Омар ибн Абу Рабиа (644 — ок. 718) — «Дон Жуан Мекки, Овидий Аравии и Востока» [38, с. 35] и Меджнун — певец трагической любви. Потом прославились узритские поэты, воспевавшие платоническую любовь.
В аббасидский период появились новые темы, связанные с утонченной городской жизнью, и особый стиль, украшенный большим количеством поэтических фигур. Его признанным главой был Абу Нувас (род. в промеж. 747—762 — ум. ок. 814). С X в. начинает бурно развиваться суфийская поэзия, в которой воспевается мистическая любовь к богу, часто выражаемая в чувственных образах, так что не всегда возможно отличить религиозные стихотворения от любовных. Среди суфийских поэтов блестящим поэтическим дарованием обладали знаменитый арабо-испанский философ-мистик Мухйи ад-Дин ибн Араби (1165—1240) и величайший арабский поэт-мистик из Египта Омар ибн ал-Фарид (1181—1235), поэмы которого сохраняют форму, сюжеты, образы любовной лирики арабов. Региональная поэзия арабов ярко представлена стихами «мусульманского трубадура» Ибн Кузмана (ок. 1080—1160), вызвавшего к жизни новый изящный стиль романской поэзии [38, с. 96].
Период с XIII-XIV по XVIII в. многие ученые считают эпохой упадка в экономической, общественной и культурной жизни арабских стран, однако полностью такое утверждение принять нельзя, поскольку именно эти века приносят оживление народного творчества арабов и триумфальное шествие арабского языка по многим странам мира. Арабские филологи относятся к народной, любимой массами, литературе[1] — с высокомерным презрением, не уделяя ей почти никакого внимания. Как писал акад. А. Е. Крымский, известный историк А. Мюллер, коснувшись «мертвенного замерзания на поле классической арабской литературы» этого периода, подчеркнул, что из-под ее леденящего покрова все же пробиваются на свет «весенние фиалки народного творчества, пословицы и полутрогательные, полунаивные песенки», такие сборники, как «Тысяча и одна ночь», «Повесть про Бейбарса», и метко заключил: «Ученые арабы взирают с неизмеримым презрением на эту народную литературу — глупцы, не знающие, насколько половина больше целого» [79, с. 91].
Новые веяния в арабской литературе, связанные с европейским влиянием, относятся к XIX-XX вв. В лирической поэзии этого времени прославились имена поэтов-романтиков: тунисца аш-Шабби, египтян Али Махмуда Таха [248] и Ахмеда Рами, суданских поэтов суфийского направления и народных поэтов различных арабских стран.
Предлагаемая работа посвящена анализу типичных и устойчивых лексических единиц арабской любовной и пейзажной, а отчасти и философской медитативной лирики.
По вопросу о поэтической лексикологии и лексикографии русского и западноевропейских языков имеется сравнительно большое число работ современных исследователей. Значительное внимание уделяется составлению словарей языка отдельных поэтов, специальных конкордансов, которые незаменимы при изучении творчества писателя [107, с. 15-34]. Меньший интерес у лексикографов вызывает изучение словаря фольклорных произведений. Лексика арабской поэзии специально почти не исследовалась [с. 60].
В арабских поэтических текстах легко выделяются некоторые семантико-стилистические группы слов, которые повторяются в различных вариантах и модификациях почти во всех лирических стихотворениях жанра газаль (любовное стихотворение). Единицы этих групп представляют собой ключевые, узловые слова, создают канву, на которой строится произведение. Попытки установления таких ключевых слов, постоянно повторяющихся формул, типичных ситуаций предпринимались исследователями и ранее [97; 199, с. 462; 159, с. 33-45, 126-134]. Так, известный «Словарь египетских обычаев, традиций и речений». (1953) Ахмеда Амина содержит среди своих статей одну, которая называется «К̣а̄мӯс ал-х̣убб», т. е. «Словарь любви». «Большинство песен у египтян — о любви,— поясняет автор.— Для выражения чувства любви имеется словарь, в котором содержится много определенных слов, таких, как х̣убб — любовь; хаджр — расставание; вис̣а̄л — любовная связь; д̣ана̄ — томление, болезнь, мучение, сердце, душа; к̣алб — сердце; ‘аз̱ӯл — порицающий, разлучник, соперник; т̣ӯл ал-лейл — всю ночь; т̣айф ал-х̮айа̄л — образ в мечтах, видение; лик̣а̄’ — встреча и т. д.» [199, с. 462]. Иначе говоря, народное творчество египтян стихийно выделяет особую группу вокабул, специальных словосочетаний и оборотов речи, характерных для лирической поэзии, преимущественно любовной. Ахмед Амин называет ряд единиц из этого лексикона, обособленных в языковом употреблении и представленных в одном функционально-стилистическом слое языка.