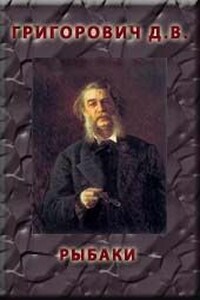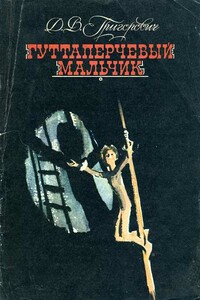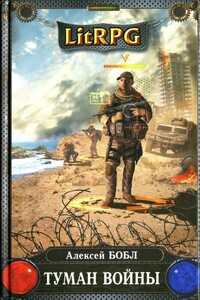В самой глухой, отдаленной чаще троскинского осинника работал мужик; он держал обеими руками топор и рубил сплеча высокие кусты хвороста, глушившие в этом месте лес непроходимою засекой. Наступала пора зимняя, холодная; мужик припасал топливо. Шагах в пяти от него стояла высокая телега, припряженная к сытенькой пегой клячонке; поодаль, вправо, сквозь обнаженные сучья дерев виднелся полунагой мальчишка, карабкавшийся на вершину старой осины, увенчанную галочьими гнездами. Судя по опавшему лицу мужика, сгорбившейся спине и потухшим серым глазам, смело можно было дать ему пятьдесят или даже пятьдесят пять лет от роду; он был высок ростом, беден грудью, сухощав, с редкою бледно-желтою бородою, в которой нередко проглядывала седина, и такими же волосами. Одежда на нем соответствовала как нельзя более его наружности: все было до крайности дрябло и ветхо, от низенькой меховой шапки до коротенького овчинного полушубка, подпоясанного лыковой тесьмою. Стужа была сильная; несмотря на то, пот обильными ручьями катился по лицу мужика; работа, казалось, приходилась ему по сердцу.
Кругом в лесу царствовала тишина мертвая; на всем лежала печать глубокой, суровой осени: листья с дерев попадали и влажными грудами устилали застывавшую землю; всюду чернелись голые стволы дерев, местами выглядывали из-за них красноватые кусты вербы и жимолости. В стороне яма с стоячею водою покрывалась изумрудного плесенью: по ней уже не скользил водяной паук, не отдавалось кваканья зеленой лягушки; торчали одни лишь мшистые сучья, облепленные слизистою тиной, и гнилой, недавно свалившийся ствол березы, перепутанный поблекшим лопушником и длинными косматыми травами. Вдалеке ни птичьего голоска, ни песни возвращающегося с пашни батрака, ни блеяния пасущегося на пару стада; кроме однообразного стука топора нашего мужичка, ничто не возмущало спокойствия печального леса.
…Время от времени за лесом подымался пронзительный вой ветра; он рвался с каким-то свирепым отчаянием по замирающим полям, гудел в глубоких колеях проселка, подымал целые тучи листьев и сучьев, носил и крутил их в воздухе вместе с попадавшимися навстречу галками и, взметнувшись наконец яростным, шипящим вихрем, ударял в тощую грудь осинника. И мужик прерывал тогда работу. Он опускал топор и обращался к мальчику, сидевшему на осине:
– Эй, Ванюшка! ишь куда забрался! того и гляди ветром снесет, ступай наземь!…
– Не замай, дядя Антон, – откликался парнишка, – небось не снесет!
Дядя Антон, успокоенный каждый раз таким увещанием, брал топор, нахлобучивал поглубже на глаза шапку и снова принимался за работу. Так повторялось неоднократно, пока наконец воз не наполнился доверху хворостом. Внимание мужика исключительно обратилось тогда к племяннику; его упорное неповиновение как бы впервые пришло ему в голову, и он не на шутку рассердился.
– Ах ты, баловень! – закричал он, стукая обухом топора в осину, – долго ли говорить тебе? слезай! вот я те, озорника, поартачишься у меня, погоди!…
– А вот же не слезу, коли так, – отвечал мальчуган, взбираясь все выше и выше.
– Не слезешь?., ладно же, оставайся один в лесу, пусть те едят волки… проклятого!…
Угроза, казалось, подействовала на ребенка; он обхватил ручонками коренастый ствол дерева, приготовляясь спуститься наземь при первой попытке дяди исполнить обещание.
– А бить станешь? – вымолвил он, наклонив из-за ветки кудрявую свою головку и глядя пристально на дядю.
– Ну, ну слезай, знай слезай…
– Взаправду не станешь?…
– Говорят, не стану, ступай скорей!
Ванюшка спустился сажени на две и опять повис па сучке.
– И на лошадь, дядя Антон, посадишь?
– Ладно, ладно, ступай только.
– Не обманешь?
– Экой пострел, прости господи! говорю, посажу – чего еще?
Последнее обстоятельство окончательно успокоило парнишку; с быстротою и ловкостью белки проскользнул он между верхними сучьями и в одно мгновение ока очутился на земле подле дяди.
Вскоре воз, навьюченный красноватым и сизым хворостом, медленно выезжал из лесу, скрипя и покачиваясь из стороны в сторону, как бы изловчаясь сбросить С себя при первом косогоре лишнюю тяжесть. Ванюшка сидел верхом на пегашке; он был вполне счастлив. Русые его кудряшки, развеваясь по ветру, открывали поминутно круглое, свежее личико, сияющее восторгом. Антон шел подле, запустив одну руку за пазуху, другой упираясь в оглоблю. Проколесивши добрый час по глинистым кочковатым полям, стлавшимся за лесом, путники наши выехали наконец на проселок и немного погодя услышали отдаленный шум мельницы. Воз приближался к троскинской лощине. Незаметная издалека и терявшаяся в волнистых линиях местности, лощина эта принимала вблизи довольно широкие размеры: на дне ее, поросшем конятником и ветельником, заваленном плитняком и громадными угловатыми каменьями, шумела и пенилась река; вместо моста через нее перекидывалась узкая плотина, упиравшаяся одним концом в старую водяную мельницу. С той стороны, откуда приближалась телега, мельница освобождалась совершенно от ветл, ограждавших ее с других трех частей, так что амбары, клети, двор, толчеи, навесы виднелись как на ладони. Шлюзы были опущены; все три постава работали без устали; главное здание, обдаваемое с одного бока белою шипящею пеной, тряслось словно в лихорадке; мука, покрывавшая его кровлю, сыпалась в воду и крутилась в воздухе. Гул былстрашный. Прежде чем спуститься с уступистой кручи на берег, Антон остановил лошадь и указал племяннику на мельницу.