Зримые голоса [заметки]
1
В некоторых сообществах глухих людей по соглашению слово, обозначающее аудиологическую глухоту, пишется со строчной буквы, в то время как словом «глухота» обозначают лингвистическую и культурную невосприимчивость.
2
Состояние человека (лат.).
3
Многочисленные и порой весьма длинные концевые примечания и сноски надо рассматривать как ментальные или образные экскурсы. Читатель может обращаться к ним или пропускать без вреда для восприятия основного текста.
4
«Пирам и Фисба» – вавилонская легенда, сохраненная древними греками и изложенная в «Метаморфозах» Овидия.
5
Эта коллега, Люси К., отлично говорит и безошибочно читает по губам. Она делает это так хорошо, что я вначале не понимал, что она глухая. Но однажды, разговаривая с ней, я случайно отвернулся в сторону и мгновенно оборвал наше общение. Только тогда я понял, что она не слышит, но читает по губам («чтение по губам» – это совершенно неадекватное обозначение того сложного искусства наблюдения, вдохновения и умозаключения, которое требуется для понимания речи по ее артикуляции). Диагноз глухоты был поставлен Люси в возрасте 12 месяцев, и родители ее тотчас изъявили горячее желание научить дочь говорить, чтобы она стала полноправным членом мира слышащих. Мать ежедневно посвящала несколько часов этому обучению. То была тяжкая работа, продолжавшаяся более двенадцати лет. Только после этого в возрасте четырнадцати лет Люси выучила язык жестов; он навсегда остался для нее вторым языком, не став «естественным». Она продолжала, пользуясь умением читать с губ и мощными слуховыми аппаратами, преподавать в «нормальных» (слышащих) классах в школе и колледже, а теперь работает в госпитале со слышащими пациентами. Сама она испытывает смешанное чувство в отношении своего положения. «Иногда я чувствую, – сказала она однажды, – что нахожусь между двумя мирами, не принадлежа ни одному из них».
6
До прочтения книги Лейн я наблюдал некоторых глухих пациентов, но наблюдал, согласно чисто медицинским понятиям, по поводу «заболеваний уха» или «отоневрологических нарушений». После прочтения книги я стал видеть таких больных в совершенно новом свете, особенно после того, как увидел, с каким напряженным вниманием, с каким воодушевлением общались между собой трое или четверо этих пациентов. Только после этого я стал думать о них не как о глухих, но как о глухих, как о членах совершенно иного языкового сообщества.
7
С момента показа по английскому телевидению программы «Неслышный голос рук» (Горизонт, 1980) было выпущено еще с полдюжины подобных программ. Много программ было сделано в Соединенных Штатах (в частности, несколько программ, подготовленных университетом Галлоде, например, «Руки, полные слов»), самая важная – это документальный фильм Фредерика Уайзмена «Глухота и слепота», показанный по государственному телевидению в 1988 году. Кроме того, по телевидению было показано несколько художественных фильмов о глухих. Так, в январе была показана последняя серия эпопеи «Звездный путь», озаглавленная «Громче шепота», где показан глухой актер Хови Сиго – глухой посол с другой планеты, общающийся с землянами на языке жестов.
8
Это было действительно так в 1969 году, когда Райт опубликовал свою книгу. С тех пор глухие написали массу книг о глухоте, из которых самая замечательная – «Глухие в Америке: голоса культуры», написанная двумя глухими лингвистами Кэролом Пэдденом и Томом Хамфрисом. Есть также романы о глухих, написанные глухими, например, «Ислей» Дугласа Булларда, где автор пытается уловить отчетливость восприятия, поток сознания и внутреннюю речь людей, общающихся на языке жестов. Другие книги глухих перечислены в превосходной библиографии, которая завершает книгу Райта «Глухота».
9
Для обозначения этого феномена Райт пользуется фразой Вордсворта «музыка глаз», даже если в этих случаях видимое не сопровождается звуковыми фантомами, и часто это словосочетание используют и другие глухие писатели для обозначения визуальных рисунков и их красоты. Особенно часто им пользуются для обозначения повторяющихся мотивов («рифм» или «согласований» и т. д.) в поэзии на языке жестов.
10
Конечно, в природе существует «согласие» ощущений – предметы издают звуки, их видят, осязают, нюхают. Звуки, вид, тактильное восприятие и запах идут рука об руку. Это соответствие устанавливается в чувственном опыте по ассоциации. Обычно мы не осознаем это соответствие, однако мы очень удивляемся, если какая-то вещь, например, начинает звучать вне соответствия со своим видом – в случае если наши чувства дают сбой. Но мы сразу осознаем соответствия разных чувств, если либо лишаемся одного из них, либо резко приобретаем. Так, Дэвид Райт «услышал» речь в тот момент, когда лишился слуха; один из моих пациентов, у которого внезапно развилась аносмия, ощущал запахи цветов всякий раз, когда их видел (Сакс, 1985). Больной, описанный Ричардом Грегори («Случай восстановления зрения после ранней слепоты», Грегори, 1974), смог сразу определять время по часам, как только впервые их увидел (больной был слеп от рождения). Прежде он определял время на ощупь, касаясь пальцами стрелок часов, у которых было снято стекло с циферблата. Как только больной стал видеть, он сразу научился переводить свое тактильное ощущение в зрительное.
11
Это восприятие (естественно, воображаемое) «фантомных голосов» при чтении с губ очень характерно для глухих, оглохших после усвоения естественного языка на слух, то есть для тех, для кого речь (и внутренняя речь) была когда-то слуховым переживанием. Эти звуки не «воображают» в обычном смысле этого слова, но скорее автоматически «переводят» визуальный опыт в его слуховой коррелят, основанный на опыте и ассоциации, – этот перевод имеет свою неврологическую основу, экспериментально подтвержденную связь слуховых и зрительных областей мозга. Этого, естественно, не происходит у больных, утративших слух до овладения естественным языком и речью. У таких глухих нет опыта слуха, на который можно было бы опереться. Для них чтение с губ, как и обычное чтение, является чисто зрительным опытом; они видят движения губ, но не слышат голос. Нам, слышащим людям, практически невозможно себе представить такой визуальный голос так же, как людям, которые никогда не слышали звуков, невозможно представить себе звучащий голос.
Люди, страдающие врожденной глухотой – это следует обязательно добавить, – могут обладать обширными познаниями в письменном английском языке, могут помнить наизусть всего Шекспира, несмотря на то что этот язык для них не звучит, он не говорит с ними звуком, он говорит с ними чисто зрительно; они не слышат, они видят «голоса» слов.
Когда мы читаем или воображаем, что с нами кто-то говорит, мы слышим голос своим внутренним ухом. Но что чувствуют люди, страдающие врожденной глухотой? Как они воображают себе голоса? Клейтон Валли, глухой поэт, сочиняющий на языке жестов, когда к нему приходит стих, чувствует, как его тело производит мелкие жесты, то есть он говорит сам с собой своим собственным голосом, который он способен воспринять. Но как быть с воображением чужих голосов, со сновидениями и галлюцинациями? Безумцы часто слышат голоса, чужие голоса, обвиняющие, изводящие, обманывающие. Страдают ли глухие, если они сходят с ума, от привязчивых зримых голосов? И если да, то как они их видят? Видят ли они висящие в воздухе жестикулирующие руки? Или перед их внутренним взором появляется жестикулирующий призрак? Я так и не смог ответить на этот вопрос. Так же трудно, например, заставить проснувшегося человека отчетливо вспомнить, что и как ему снилось. Он что-то узнал во сне, но получил ли он эту информацию зрительно или на слух, он, как правило, вспомнить не может. До сих пор было проведено очень мало исследований о галлюцинациях, сновидениях и языке глухих.
Вопрос о том, каким образом поздно оглохшие люди могут продолжать «слышать», аналогичен вопросу о том, как поздно ослепшие люди могут продолжать «видеть» и продолжают – наяву и во сне – жить в визуальном мире. Самая поразительная автобиография такого слепого была написана Джоном Халлом (1990). «В первые два года моей слепоты, – пишет он, – когда я думал о знакомых мне людях, они распадались на две группы: людей с лицами и людей без лиц. Люди, которых я знал до потери зрения, имеют лица, те, с кем я познакомился потом, лиц не имеют. С течением времени доля безликих стала расти». У Халла было живое зрительное представление о тех людях, которых он знал до того, как потерял зрение, он явственно видел своих собеседников во время разговора, хотя их образы были фиксированы в прошлом и поэтому с годами устаревали. При встречах с другими людьми, о которых у него не сохранились зрительные воспоминания, у Халла периодически возникали неустойчивые зрительные «проекции» (возможно, аналогичные слуховым «фантомам» Райта и фантомным ощущениям ампутированных конечностей; такие сенсорные призраки создаются мозгом, когда он внезапно лишается нормальных сенсорных входов).
В целом Халл чувствовал, что по мере того, как проходили годы, он все больше и больше впадал в то, что сам он назвал «глубинной слепотой». Он все меньше и меньше помнил, представлял себе зрительные образы, да, в общем, и перестал в них нуждаться. Он постепенно стал «видеть всем телом». Он жил теперь в автономном и совершенном мире телесных ощущений: осязательных, обонятельных, вкусовых и, конечно же, слуховых. Причем все эти чувства значительно усилились и обострились. В речи он продолжал использовать зрительные образы и метафоры, но теперь они действительно стали для него всего лишь метафорами. Вероятно, те, кто поздно оглох, тоже могут терять воспоминания о слуховых образах, все больше и больше погружаясь в исключительно визуальный мир «глубинной глухоты». Когда Райта однажды спросили, хотел бы он сейчас вернуть себе слух, он ответил, что нет, так как сейчас его мир и без этого совершенен.
12
Таков стереотипный взгляд, не вполне, впрочем, верный. Люди с врожденной глухотой не чувствуют «безмолвия» и не жалуются на него, точно так же, как слепые не видят «тьму» и не сетуют на нее. Это лишь наши проекции или метафоры их состояния. Более того, люди, страдающие тяжелейшей глухотой, могут слышать самые разнообразные звуки и превосходно ощущают вибрацию. Эта чувствительность к вибрации может стать дополнительным чувством. Так, например, Люси К., несмотря на то что она практически ничего не слышит, различает звучание «пятой струны», если кладет руку на рояль, и узнает по телефону голоса людей при значительном усилении громкости. В обоих случаях она воспринимает вибрацию, а не звук. Развитие вибрационного чувства как дополнительного средства восприятия в какой-то степени аналогично развитию «лицевого зрения» (когда слепые используют лицо как эхолокатор для получения звуковой информации) у слепых.
Слышащие люди воспринимают звук или вибрацию: так, очень низкая нота «до» (ниже диапазона фортепьянной первой октавы) может восприниматься человеком либо как очень низкий звук «до» или беззвучная вибрация с частотой 16 колебаний в сек. Если спуститься еще на октаву ниже, то будут восприниматься только колебания. Если же подняться на октаву выше, то есть заставить струну колебаться с частотой 30 колебаний в сек., то это будет восприниматься как чистый звук без вибрации. Восприятие «тона» в звуковом диапазоне является своего рода синтетическим суждением или конструктом нормальной слуховой системы (см. книгу Гельмгольца «Восприятие тона», написанную в 1862 году). Если же создание такого конструкта невозможно, например, у глухого, то происходит расширение диапазона восприятия вибрации; этот диапазон смещается вверх, в область, которую слышащие люди воспринимают как чистые тоны. Такое расширение может достичь середины музыкального или речевого частотного диапазона.
13
Изабель Рапен считает глухоту излечимой, а точнее, поддающейся профилактике формой отставания в интеллектуальном развитии (см.: Рапен, 1979).
Существует поразительная разница между стилем подхода к миру между глухими и слепыми (а также и зрячими). Слепые дети, в частности, склонны к избыточному развитию речевых способностей и пользуются вербальными описаниями вместо зрительных впечатлений, пытаются вытеснить или заместить зрительные образы словесными. Все это приводит, считала психоаналитик Дороти Берлингем, к псевдовизуальному самоутверждению – ребенок притворяется, что видит, хотя на самом деле он не видит ничего (Берлингем, 1972). Она считала, что дети, страдающие врожденной слепотой, нуждаются в совершенно особом воспитании, требующем, быть может, даже особого языка, чтобы обращаться с ними не как с ущербными, но как с особыми людьми, обладающими такими же правами, как и все прочие. Это была революция в 30-е годы, когда появились ее первые публикации. Было бы неплохо иметь такие психоаналитические исследования, касающиеся детей с врожденной глухотой. Правда, психоаналитик в таком случае должен быть либо глухим, либо в совершенстве, как родным, владеть языком жестов.
14
Виктор, дикий мальчик, был обнаружен в лесах близ Авейрона в 1799 году. Ребенок передвигался на четвереньках, питался желудями и вел жизнь дикого животного. Когда его в 1800 году привезли в Париж, он привлек к себе громадный философский и педагогический интерес. Как он мыслит? Можно ли его воспитать и дать ему образование? Врач Жан-Марк Итар, известный своим пониманием (или непониманием) глухоты, взял мальчика к себе домой и попытался научить его языку и воспитать его. Первые заметки Итара по этому поводу были опубликованы в 1807 году, за ними последовали и другие публикации. Харлан Лейн также посвятила мальчику книгу, где среди прочего рассуждает о разнице между «дикими» мальчиками и детьми с врожденной глухотой.
Романтические мыслители XVIII века, самым ярким представителем которых был Руссо, были склонны видеть причину всех бед, несчастий и притеснений в цивилизации. Они считали, что невинность и свободу можно найти только в природе: «Человек рождается свободным, но везде пребывает в цепях». Ужасающая реальность, в которой жил Виктор, стала для романтиков холодным душем, откровением, которое так описал Клиффорд Гирц:
«Нет такой вещи, как человеческая природа, независимая от культуры. Люди без культуры не станут аристократами природы в духе примитивизма Просвещения. Такие люди превратятся в неуправляемых чудовищ с весьма малым набором полезных инстинктов, с неразвитыми чувствами, лишенными всякого интеллекта: короче, они превратятся в безмозглых безумцев. Так как наша центральная нервная система, как и венчающее ее проклятие и благословение – новая кора, развивалась во взаимодействии с культурой, то она не способна направлять наше поведение и организовывать наш опыт без руководства, обеспеченного системой значащих символов. Мы в итоге являемся незаконченными и недоразвитыми животными, чье завершение и развитие осуществляется только в культуре» (Гирц, 1973, с. 49).
15
Миллер, 1976.
16
В начале XVI века некоторых глухих детей из благородных семейств учили говорить и читать, хотя на это уходило много лет упорного обучения. Детей учили для того, чтобы закон признал их равноправными гражданами (немые не считались таковыми) и они могли унаследовать титул и состояние. Педро Понсе де Леон в Испании XVI века, Брэйдвуды в Англии, Перейре и Дешан во Франции – все это были слышащие просветители, добившиеся некоторых успехов в обучении глухих детей членораздельной речи. Лейн тем не менее подчеркивает, что многие из просветителей пользовались для этого жестами. Действительно, даже самые известные из их глухих учеников, несмотря на владение устной и письменной речью, пользовались также и языком жестов. Речь их была, как правило, невнятной и неразборчивой; к тому же после прекращения занятий эта способность быстро регрессировала. Но в целом до 1750 года 99,9 процента людей с врожденной глухотой не имели ни малейшей надежды на овладение грамотой и получение образования.
17
Существовали, однако, и чисто письменные языки, например, научный язык, который в течение тысячелетия использовался элитой китайской бюрократии. На этом языке никогда не говорили. Более того, он и не был для этого предназначен.
18
Здесь де л’Эпе в точности повторяет идеи своего современника Руссо, как это делали авторы всех описаний языка жестов в XVIII веке. Руссо (в своем «Рассуждении о происхождении неравенства» и в эссе «О происхождении языка») вводит понятие первичного, или исходного, человеческого языка, в котором каждая вещь имеет свое истинное и естественное название, языка настолько конкретного, настолько частного, что он может ухватить сущность, «бытийность» всего на свете, настолько спонтанного, что он может прямо выразить все эмоции, и настолько прозрачного, что становятся невозможными уклончивость и обман. Такой язык не нуждается (и это действительно так) ни в логике, ни в грамматике, ни в метафорах, ни в абстракциях. Это был не язык-посредник – язык символического выражения мыслей и чувств, а язык непосредственного выражения того же. Возможно, мысль о таком языке – языке сердца, языке прозрачности и света, языке, который никогда не обманывал и не запутывал нас (Витгенштейн часто говорил о колдовстве языка), языке чистом и глубоком, как музыка, – является универсальной фантазией.
19
Эта идея о том, что язык жестов является однородным и универсальным, что он дает возможность глухим всего мира мгновенно вступать между собой в общение, дожила до нашего времени. Тем не менее это неверно. Существуют сотни различных языков жестов, возникших независимо друг от друга везде, где существует достаточное число глухих, вступающих в контакт. Так, существуют американский язык жестов, британский язык жестов, французский язык жестов, датский язык жестов, китайский язык жестов и майский язык жестов, хотя они не имеют никакого отношения к устным английскому, французскому, датскому, китайскому и прочим языкам. (Более пятидесяти национальных языков глухонемых – от языка австралийских аборигенов до югославского – описано в «Энциклопедии Галлоде о глухих и глухоте», изданной Джоном Ван Кливом.)
20
Афазия – нарушения речи, обусловленные очаговыми поражениями головного мозга. – Примеч. ред.
21
Сочинения Хьюлингса-Джексона, касающиеся языка и афазии, очень удобно собраны в одной книге «Мозг», изданной в 1915 году, вскоре после смерти великого невролога. Наилучший критический разбор взглядов Хьюлингса-Джексона можно найти в третьей главе чудесного двухтомника Генри Хэда «Афазия и родственные расстройства речи».
22
Действительно, незнание или недоверие привели де л’Эпе к созданию и внедрению совершенно ненужной и на самом деле абсурдной системы «методических знаков», которая в какой-то степени замедлила обучение глухих и явилась препятствием для их общения со слышащими. Оценка аббатом де л’Эпе языка жестов была одновременно экзальтированной и уничижительной. С одной стороны, он видел в языке жестов «универсальный» язык, а с другой стороны, считал его языком, лишенным грамматики (отсюда необходимость привлечения понятий из французской грамматики). Эта оценка господствовала в сурдопедагогике в течение шестидесяти лет, до тех пор, пока Рох-Амбруаз Бебьян, ученик Сикара, поняв, что самодеятельные языки жестов являются автономными законченными языками, не отбросил «методические знаки» и грамматику устной речи.
23
В книге «Когда разум слышит» Харлан Лейн превращается в романиста, биографа и историка, когда начинает вести повествование от имени Лорана Клерка, устами которого автор описывает раннюю историю глухих. Так как Клерк за свою долгую жизнь стал участником, а иногда и зачинателем множества крупных событий, его «воспоминания» становятся чудесной «персонифицированной» историей глухих.
История вербовки Лорана Клерка и его приезд в Америку является излюбленным местом в истории глухих и их фольклоре. Однажды преподобный Томас Галлоде наблюдал из окна своего дома, как в его саду играют дети, и увидел, что одна девочка не принимает участие в общем веселье. Он узнал, что девочку зовут Алисой Когсвелл и что она глухая. Сначала он попытался сам заниматься с ней, но потом решил поговорить с ее отцом, хартфордским хирургом Мэйсоном Когсвеллом, об основании в Хартфорде школы для глухих (в то время в Соединенных Штатах не было школ для глухих).
Галлоде отправился в Европу, чтобы поискать учителя, который смог бы основать или содействовать основанию школы в Хартфорде. Сначала он отправился в Англию, в одну из брэйдвудских школ, в «устную» школу, основанную в предыдущем веке (это была та самая школа, которую посетил Сэмюэл Джонсон по пути на Гебриды), но здесь ему оказали весьма холодный прием: сказали, что метод «устного» обучения составляет секрет школы. Получив отказ в Англии, Галлоде пересек пролив и поехал в Париж, где нашел Лорана Клерка, который в то время работал преподавателем в национальном институте глухонемых. Захочет ли он – сам глухонемой, никогда не покидавший пределов родной Франции и, мало того, практически не покидавший стен института, – захочет ли он уехать, чтобы нести Слово (Жест) в далекую Америку? Клерк согласился, и они вдвоем пустились в обратный путь. За пятьдесят два дня путешествия Клерк научил Галлоде языку жестов, а Галлоде научил его английскому. Вскоре по приезде они начали изыскивать деньги – публика и чиновники оказались на удивление щедрыми – и уже в следующем году вместе с Мэйсоном Когсвеллом открыли в Хартфорде приют для глухих. Сегодня на территории университета стоит статуя Галлоде, дающего первый урок Алисе Когсвелл.
24
Этой атмосферой буквально проникнута прекрасная книга «Глухой и бессловесный» Эдвина Джона Манна, покойного ученика хартфордского приюта, напечатанная в издательстве «Хичкок» в 1836 году.
25
У нас нет достаточных прямых свидетельств об эволюции американского языка жестов, особенно за первые 50 лет его существования, когда по мере американизации французского языка жестов происходила дальнейшая креолизация американской системы (см.: Фишер, 1978, и Вудворд, 1978). Через 50 лет мы застаем уже широкую пропасть между французским языком жестов и креольским американским языком жестов – об этой разнице был осведомлен уже и сам Клерк. Разница продолжала увеличиваться на протяжении всех последних 120 лет. Тем не менее между этими языками продолжает существовать и определенное сходство, во всяком случае, американские глухие чувствуют себя в Париже, как дома. Напротив, американцы плохо понимают британский язык жестов, у которого совершенно иные народные истоки.
26
Местные самостоятельные диалекты языка глухих могли быть очень разными: так, до 1817 года американский глухой, путешествуя по стране, мог столкнуться с совершенно незнакомыми ему языками жестов. В Англии процесс унификации был таким медленным, что до недавнего времени глухие из соседних деревень могли не понять друг друга.
27
Старые термины «глухой и бессловесный» и «глухонемой» обозначали предполагавшуюся неспособность людей с врожденной глухотой к устной речи. Конечно же, это не так. Глухой человек вполне способен к речи, так как обладает таким же голосовым аппаратом, как и всякий другой человек; но глухой не может слышать собственную речь и соответственно корригировать свое произношение на слух. Поэтому их речь может быть аномальной по громкости и тональности, глухие, говоря, пропускают согласные и гласные, иногда в таком количестве, что их речь становится совершенно невнятной. Так как глухие не могут отслеживать свою речь на слух, им приходится для этого корригировать ее за счет других чувств – визуально, осязательно и кинестетически. Более того, рано оглохшие люди и люди с врожденной глухотой не знают, как реально звучит речь, не имеют никакого понятия о соотнесенности значений и звуков. То, что составляет суть слухового феномена, должно быть понято неслуховыми средствами. Именно в этом состоит главная трудность, именно поэтому на обучение речи уходит так много времени и сил.
В этом причина резкого расхождения во мнениях между людьми с врожденной глухотой и поздно оглохшими людьми. Позднооглохшие помнят, как говорить, пусть даже они уже не в состоянии следить за своей речью и корригировать ее. Людей с врожденной глухотой или оглохших до усвоения речи приходится учить, как говорить, при этом они не помнят и не чувствуют, как звучит настоящая устная речь.
28
Несмотря на то что Александр Белл видится многим как пугало для глухих (Джордж Ведиц, бывший президент национальной ассоциации глухих называл Белла «самым страшным врагом глухих»), надо помнить, что однажды Белл сказал следующее:
«Думаю, что если мы примем в расчет умственные способности глухого ребенка без учета его отношения к языку, то поймем, что ни один язык не будет доступен для него лучше, нежели язык жестов. Это единственный способ достучаться до сознания глухого ребенка».
Кстати, и сам он не был невеждой в языке жестов. Напротив, он превосходно владел этим языком, «соперничая в этом навыке с глухонемыми… он изъяснялся на языке жестов изящно, легко и непринужденно», – говоря словами его глухого друга Альберта Бэллина. Сам Бэллин называл интерес Белла к глухим своеобразным хобби, но, думается, это хобби было больше похоже на противоречивую одержимость (см.: Гэннон, 1981, с. 78-79).
29
Сегодня многие глухие являются функционально неграмотными. Исследование, предпринятое колледжем Галлоде в 1972 году, показало, что среднее качество чтения среди восемнадцатилетних выпускников средних школ для глухих соответствовало четвертому классу общеобразовательной школы, а исследование британского психолога Р. Конрада указывает на аналогичное положение в Англии, где выпускники школ для глухих читают, как девятилетние дети (Конрад, 1979).
30
Конечно, были и другие романы, например, роман Карсон Маккаллер «Сердце – одинокий охотник». Образ мистера Сингера, глухого человека, одинокого в мире слышащих, резко отличается от образов, нарисованных в романе Гринберг. Ее герои живо осознают себя, свою личность, участвуют в общественной жизни. За тридцать лет, разделяющие эти две книги, в обществе произошли глубокие изменения, позволившие глухим осознать свое место в мире и свои потребности.
31
Несмотря на то что глухие дети рано усваивают словарь языка жестов, овладение его грамматикой происходит в том же возрасте, в каком слышащие дети усваивают грамматику устного языка. Таким образом, лингвистическое развитие происходит в одинаковом темпе и у глухих, и у слышащих детей. То, что способность воспроизводить жесты появляется раньше способности артикулировать речь, объясняется больше легкостью жестикуляции, так как она требует простых и медленных движений немногочисленных мышц, в то время как устная речь требует координированной деятельности сотен структур, и поэтому ребенок овладевает речью к двум годам. Интересно, что четырехмесячный глухой ребенок может воспроизвести жест «молоко», в то время как слышащий ребенок, когда он голоден, может лишь кричать и поворачивать голову из стороны в сторону. Возможно, всем детям было бы полезно усвоить некоторые важные жесты!
32
Глухоту можно заподозрить по внешним признакам, но доказать ее наличие довольно трудно в первый год жизни ребенка. Если есть какие-то веские причины подозревать глухоту – например, если в семье есть глухие или если ребенок не реагирует на резкие звуки, – то необходимо провести электрофизиологическое исследование – зафиксировать вызванные слуховые потенциалы мозга в ответ на звуковые раздражители. Это сравнительно простое и безболезненное исследование позволяет подтвердить или исключить глухоту уже в первую неделю жизни ребенка.
33
Вот как представлял себе такое сообщество Сикар:
«Может ли в каком-нибудь уголке мира существовать целое сообщество глухих людей? Может – и еще как! В этом мире мы бы никогда не подумали, что населяющие его люди отсталые, что они не умны и не способны общаться. У них наверняка был бы язык жестов, причем язык, может быть, богаче нашего. По крайней мере этот язык был бы лишен всякой двусмысленности и мог бы точно передавать все движения человеческой души. Так почему эти люди были бы нецивилизованными? Почему они не могли бы иметь законы, правительство, полицию, не уступающие нашим?» (Лейн, 1984b, с. 89-90).
Это видение, столь идиллическое у Сикара, предстает устрашающим в столь же гиперболической утопии Александра Грэхема Белла «Записки о возникновении глухой разновидности человеческой расы», напечатанной в 1883 году. В этой книге содержатся предложения драконовских мер в отношении глухих. Книга появилась после посещения Беллом острова Мартас-Винъярд (см. ниже). Оба эти воззрения – идиллическое и антиутопическое – характерны для великой сказки Г. Дж. Уэллса «Страна слепых».
Сами глухие иногда проявляют склонность к глухому сепаратизму, к глухому «сионизму». В 1831 году Эдмунд Бут предложил создать поселения или общины глухих, а в 1856 году Джон Флерной предлагал реально создать такие поселения «где-нибудь на Западе». В фантазиях эта идея жива до сих пор. Так, Лайсон К. Сулла, герой книги «Ислей», в своих сновидениях становится правителем государства Ислей и делает его государством «глухих, из глухих и для глухих» (Буллард, 1986).
34
Существуют и другие изолированные сообщества, где велика доля глухих среди населения и где глухие живут в благоприятных социальных условиях. Например, это в полной мере относится к расположенному в Карибском море острову Провидения, который был подробно исследован Джеймсом Вудвордом (1982) и описан Вильямом Уошабо.
Вероятно, общины, подобные общине острова Мартас-Винъярд, вовсе не редкость. Вероятно, они возникают везде, где велика доля глухих среди местного населения. Например, есть одна отдаленная деревня на полуострове Юкатан (она была открыта и исследована этнографом и кинорежиссером Хьюбертом Смитом, а теперь там работают лингвист и антрополог Роберт Джонсон и Джейн Норман из университета Галлоде), где живут 13 глухих взрослых и один ребенок. Всего в деревне живут 400 человек, причем все жители владеют языком жестов. У семьи есть и другие глухие родственники, двоюродные и троюродные, живущие в окрестных деревнях.
Люди здесь пользуются не «местным» языком жестов, а довольно древним майянским языком, так как он понятен глухим жителям всех деревень, рассеянных на пространстве в сотни квадратных миль и не имеющих между собой практически никакого сообщения. Этот язык отличается от центральномексиканского языка, используемого в Мериде и других городах Центральной Мексики. Носители этих двух языков взаимно не понимают друг друга. Полноценная жизнь деревенских глухих – в общинах, которые принимают их как равных и слышащие представители которых владеют языком жестов, – находится в вопиющем контрасте с положением «городских» глухих в Мериде, где они занимают самые низкие ступени социальной лестницы, не имея доступа к информации, культуре и языку, и работают уличными торговцами или велорикшами. Из этого примера следует, как подчас хорошо работает общество даже при плохой «системе».
35
Помимо образцовой школы для глухих, город Фримонт (штат Калифорния) предлагает глухим престижные рабочие места. В этом городе глухие пользуются заслуженным почетом и уважением как со стороны государственных учреждений, так и со стороны общества. В городе проживают тысячи глухих людей, что создало уникальную лингвистическую и культурную ситуацию, где равными правами пользуются язык жестов и устная речь. В городе есть кафе, где половина посетителей изъясняется устно, а половина – на языке жестов. В гостиницах Молодежной христианской организации работают как говорящие, так и глухие. Глухие и слышащие играют в одних спортивных командах. Здесь произошла не только встреча, дружеская встреча глухих и слышащих, здесь произошло слияние двух культур, так что многие слышащие (в основном дети) усваивают язык глухих, причем не в результате целенаправленного изучения, а в процессе общения. Так, здесь, в городе, расположенном в самом сердце Силиконовой долины, сегодня, в 80-е годы (похожая ситуация сложилась в Рочестере, штат Нью-Йорк, где несколько тысяч студентов учатся в Национальном техническом институте для глухих), возрождается положение, знакомое нам по Мартас-Винъярд.
36
Недавно я познакомился с молодой женщиной, Деборой Х., слышащим ребенком глухих родителей. Сама она владеет языком жестов с детства, это ее первый «родной» язык. Дебора рассказала мне, что часто непроизвольно переходит на язык жестов и даже «думает» на нем всякий раз, когда сталкивается со сложной интеллектуальной проблемой. Помимо коммуникативной функции, язык также обладает функцией интеллектуальной, и для Деборы, которая теперь живет в мире слышащих и говорящих, функция общения, естественно, связана с разговорным, устным языком, но интеллектуальная функция для нее неразрывно связана с языком жестов.
Добавление (1990): Интересная диссоциация или двойственность вербального и двигательного способа выражения была описана Арлоу (1976) в психоаналитическом исследовании слышащего ребенка глухих родителей:
«Общение с помощью двигательного поведения стало существенной частью переноса. Сам этого не зная, я одновременно получал два набора сообщений: одно в словах, а другое в том виде, в каком он обычно общался с родителями. Иногда ребенок выражал свои мысли жестами, как в разговорах с отцом. В иные моменты имел место перенос, когда двигательные символы служили лакировкой для вербальной информации, которую пациент сообщал обычными словами. Они иногда усиливали значение устно произнесенных слов, но чаще противоречили последним. В каком-то смысле «подсознательный материал» проявлялся в сознании двигательным, а не словесным способом представления».
37
Такое встречается очень часто. Глухота иногда долго не распознается даже умными и наблюдательными родителями. Диагноз в таких случаях ставят с большим опозданием, когда ребенок уже теряет способность к усвоению языка. Часто определяют такие сопутствующие диагнозы, как «немота» или «умственная отсталость», и эти ярлыки остаются потом на всю жизнь. В госпиталях для хронических больных находится много пациентов, страдающих врожденной глухотой, с диагнозами «умственная отсталость», «аутизм» или «замкнутость». Они на самом деле не страдают ни одним из этих расстройств. Просто эти люди с самого раннего возраста были лишены возможности нормально развиваться.
38
Действительно ли это так? Уильям Джемс, всегда интересовавшийся взаимоотношениями языка и мышления, переписывался с Теофилусом д’Эстреллой, одаренным глухим художником и фотографом, а в 1893 году опубликовал автобиографическое письмо д’Эстреллы, сопроводив его своими рассуждениями на эту тему. Д’Эстрелла родился глухим и до девятилетнего возраста не знал ни одного языка жестов (правда, с раннего детства он объяснялся с семьей на домашнем языке жестов). Сначала д’Эстрелла пишет:
«До того как я пошел в школу, я мыслил картинами и знаками. Картины были общими, лишенными подробных деталей. Картины эти были мимолетными и быстро проплывали перед моим мысленным взором. Домашние знаки были немногочисленны, но очень образны, в мексиканском стиле… и были совсем не похожи на символы языка глухонемых».
Несмотря на то что д’Эстрелла был лишен языка, он, несомненно, был любознательным, вдумчивым и даже созерцательным ребенком, обладавшим сильным воображением: так, он думал, что соленое море – это моча морского бога, а Луна – богиня неба. Все это он был способен сообщить другим, когда на десятом году жизни пошел в Калифорнийскую школу для глухих, где научился языку жестов и письму. Д’Эстрелла считал, что он мыслил, и мыслил широко, хотя и зрительными образами, еще до того, как овладел формальным языком. Он считал, что язык помог ему отточить мышление, но для самого мышления язык не является необходимым. Таково же было и заключение Джемса:
«Его космологические и этические рассуждения были всплесками его одинокого мышления… Конечно, он не располагал нужными жестами для выражения причинных и логических отношений, которые были необходимы для его индуктивных умозаключений, например, о Луне. Насколько можно судить, его рассказ опровергает идею о том, что абстрактное мышление невозможно без слов. Абстрактная мысль весьма тонкого свойства, как с научной, так и с нравственной точки зрения, выступает здесь прежде средств ее выражения». [Курсив мой. – О.С.]
Джемс считал, что исследование таких глухих людей может пролить свет на соотношение мышления и языка. (Следует добавить, что некоторые критики Джемса высказывали сомнения в достоверности автобиографических воспоминаний д’Эстреллы.)
Но и в самом деле, зависит ли мышление, все мышление, от языка? Определенно создается впечатление (если можно доверять интроспективным наблюдениям), что математическое мышление (вероятно, очень специфическая форма мышления) может осуществляться без использования языка. Этот вопрос довольно подробно обсуждал математик Роджер Пенроуз (Пенроуз, 1989). В качестве примера он приводит собственные интроспективные наблюдения, а также автобиографические данные Пуанкаре, Эйнштейна, Гальтона и других. Эйнштейн, когда его спросили о том, как он мыслит, написал:
«Слова языка в том виде, в каком они пишутся или произносятся, не играют никакой роли в механизме моего мышления. Психические сущности, которые служат элементами мышления, являются определенно знаками и в большей или меньше степени ясными образами… зрительного и мышечного типа. Обычные слова или другие символы подбираются уже на второй стадии и с большим трудом».
Жак Галамар пишет в «Психологии математического открытия»:
«Я настаиваю на том, что слова вообще отсутствуют в сознании, когда я думаю. Даже после того, как я прочитаю или услышу вопрос, слова тотчас исчезают, когда я начинаю обдумывать ответ. Я полностью согласен с Шопенгауэром в том, что “мысли умирают в тот момент, когда они воплощаются в слова”».
Пенроуз, геометр по роду деятельности, заключает, что слова практически бесполезны для математического мышления, хотя они, может быть, подходят для иных видов мышления. Нет сомнения, что шахматист, компьютерный программист, музыкант, актер или живописец придут к подобным умозаключениям. Ясно, что язык, если понимать его узко, не является единственным носителем или инструментом мышления. Возможно, нам стоит расширить понятие языка, чтобы он включал в себя математику, музыку, актерскую игру, живопись… и любую форму репрезентирующей системы.
Но действительно ли мышление осуществляется именно так? Действительно ли Бетховен, поздний Бетховен, мыслил музыкой? Это представляется маловероятным, пусть даже его мысли выражались и воспроизводились музыкой и могут быть поняты только через музыку. (Бетховен всю жизнь был великим формалистом, особенно же в те двадцать лет, когда он стал глухим и не мог уже слышать свою музыку.) Мыслил ли Ньютон дифференциальными уравнениями, когда «в одиночестве путешествовал по странным морям мыслей»? Это тоже представляется маловероятным, хотя его мысли едва ли могут быть поняты без дифференциальных уравнений. На самом глубинном уровне люди мыслят не музыкой и не уравнениями, и даже мастера слова, вероятно, не мыслят словами. Шопенгауэр и Выготский, прекрасно владевшие словом, мышление которых было, казалось, неотделимо от слов, настаивали на том, что мышление происходит помимо слов. «Мысли умирают, – писал Шопенгауэр, – когда воплощаются в слова». «Слова умирают, – писал Выготский, – когда вперед выступает мысль».
Но если мысль трансцендентна по отношению к языку и всем формам представления, она тем не менее создает их и нуждается в них для своего выражения. Мысль сделала это в человеческой истории и продолжает делать это в каждом из нас. Мысль не язык, не символика, не воображение и не музыка, но без них она может, не родившись, умереть в голове. Именно это угрожает Джозефу, д’Эстрелле, Массье, Ильдефонсо, это угрожает глухим детям и всем детям вообще, если их лишить языка и других культурных инструментов и форм.
39
А.Р. Лурия и Ф.Я. Юдович описали однояйцовых близнецов, страдавших врожденной задержкой речевого развития (следствие заболевания головного мозга, но не глухоты). Эти близнецы, несмотря на нормальный и даже высокий уровень развития интеллекта, вели себя довольно примитивно: игры их были повторяющимися и не блистали изобретательностью. У них были большие трудности при обдумывании проблем, выполнении сложных действий или планировании. Это была, выражаясь словами А.Р. Лурии, «особая, недостаточно дифференцированная структура сознания, с неспособностью отделить слово от действия, ориентироваться, планировать деятельность… формулировать цели деятельности посредством речи».
Когда они были разлучены и каждый получил в свое распоряжение нормальную языковую систему, «вся структура умственной жизни обоих близнецов одновременно и разительно изменилась… и всего лишь через три месяца мы могли наблюдать начало осмысленной игры… возможность продуктивной конструктивной деятельности в свете четко сформулированной цели… интеллектуальные операции, которые незадолго до этого находились у них в зачаточном состоянии…»
Все эти «кардинальные улучшения», как назвал их Лурия, улучшения не только в интеллектуальной сфере, но и во всем существовании детей, «мы можем объяснить влиянием только одного изменившегося фактора – приобретением языковой системы».
Вот что говорили Лурия и Юдович об ущербности немых глухих:
«Глухонемой, которого не научили говорить… не владеет всеми теми формами рассуждения, которые реализуются с помощью речи… Он указывает объект или действие жестом; он не способен формулировать абстрактные понятия, систематизировать явления внешнего мира с помощью абстрактных сигналов, отшлифованных языком, но эти сигналы неестественны для визуального, приобретенного практикой опыта».
Можно только сожалеть о том, что у Лурии не было опыта работы с глухими людьми, овладевшими беглой речью, иначе он оставил бы нам несравненное описание усвоения одновременно с языком способности к формированию концепций и к систематизации.
Добавление (1990): Недавно я узнал, что, несмотря на то что он никогда не публиковал работ на эту тему, Лурия в 50-е годы много работал с глухими и слепоглухими детьми, подчеркивая важную роль языка жестов в их образовании и развитии. Это было возвращением к «дефектологии», первопроходцами которой были Лурия и Выготский в 20-е и 30-е годы, результаты которой он позже применил для реабилитации больных с неврологическими поражениями.
40
Пи-мезоны – вид субатомных элементарных частиц из группы мезонов. – Примеч. ред.
41
Примечание 1990 года. Недавно, будучи в Италии, я познакомился с 9-летним цыганским мальчиком Мануэлем, который родился глухим, но никогда не встречался с глухими людьми и (из-за бродячей жизни родителей) не получал никакого образования. Он не был знаком ни с одним языком – ни с языком жестов, ни с итальянским, но был смышленым, умным, дружелюбным и эмоционально уравновешенным. Его очень любили родители, старшие братья и сестры, которые доверяли ему выполнение самых разнообразных заданий. Когда Мануэля взяли в школу для глухих на виа Номентана, у учителей были большие сомнения, сможет ли он в таком возрасте освоить язык. Но Мануэль учился блестяще и через три месяца уже владел языком жестов и итальянским языком. Он любит оба языка, любит общение, всегда задает массу вопросов, проявляет непритворное любопытство и интеллектуальную живость. Его успехи лучше, чем у бедного Джозефа, для которого усвоение языка оказалось долгим и трудным.
В чем причина такой разницы? Действительно, Мануэль обладает незаурядным умом, а умственные способности Джозефа находятся на среднем уровне (хотя и в пределах нормы), но дело, видимо, в том, что Мануэля всегда любили, относились к нему как к здоровому – он был полноправным членом семьи и сообщества, особенным, но не чужим. Мануэль никогда не чувствовал себя покинутым, как Джозеф, заброшенным, изгоем.
Эмоциональный фактор, по-видимому, очень важен в определении того, сможет ли ребенок усвоить язык после достижения критического возраста или нет. Так, Ильдефонсо сделал это успешно, но трое других глухонемых взрослых, с которыми работала Сьюзен Шаллер, были настолько ущербны в эмоциональном плане из-за своей изоляции (а в одном случае человек был помещен в спецучреждение), что окончательно замкнулись в себе, отказались от общения и пресекли все попытки преподать им формальный язык.
42
Автобиография Массье целиком перепечатана в книге Харлана Лейна «Опыт глухоты», с. 76-80; там же приведены выдержки из книги аббата Сикара, с. 83—126.
43
В 1977 году С. Голдин-Медоу и Х. Фельдман начали постоянную видеосъемку группы страдающих тяжелой глухотой детей дошкольного возраста, изолированных от носителей языка жестов, потому что их родители хотели, чтобы дети овладели устной речью и умением читать по губам. Несмотря на изоляцию и строгое требование родителей пользоваться только устной речью, дети начали создавать свой язык жестов – сначала единичные жесты, потом последовательности жестов – для того, чтобы обозначать людей, предметы и действия. Именно это происходило в XVIII веке с Массье и другими глухими. Домашние знаки, придуманные Массье, и знаки, изобретенные дошкольниками нашего времени, – это простые жестовые системы, обладающие рудиментарным синтаксисом и весьма бедной морфологией. Но дети не совершили переход от простейшей системы к системе, обладающей грамматикой и синтаксисом, которыми овладевают дети, учащиеся формальному языку жестов.
Такие же наблюдения были сделаны в отношении изолированных глухих взрослых. Был один такой глухой мужчина на Соломоновых островах – первый в 24-м поколении (Кушель, 1973). Эти взрослые тоже пользуются системой жестов с очень простым синтаксисом и морфологией. С помощью этой системы они могли сообщать о своих базовых потребностях и чувствах соседям, но сами не были в состоянии превратить эту жестовую систему в полноценный, грамматически правильный язык жестов, в полноценную лингвистическую систему.
Здесь мы видим, как пишут Кэрол Пэдден и Том Хамфрис, мучительную попытку создать язык в течение жизни одного поколения. Но это невозможно сделать, потому что для создания языка нужен ребенок, его детский мозг, который, когда на него воздействует природный язык, начинает его трансформировать и превращает в видоизмененный естественный язык. Таким образом, язык жестов является продуктом исторического развития и требует для своего создания по меньшей мере двух поколений. Язык жестов становится богаче и грамматически более насыщенным, если его создают несколько поколений, как это видно на примере глухих острова Мартас-Винъярд, но двух поколений достаточно.
То же самое происходит и с устной речью. Когда встречаются два сообщества, говорящие на разных языках, они вырабатывают некий понятный для всех суррогат языка, лишенный всякой грамматики. Грамматика появляется только в следующем поколении, когда дети привносят его в суррогатный язык взрослых. Таким образом создается грамматически полноценный креольский язык. Таково, например, утверждение лингвиста Дерека Биккертона (см.: Рестак, 1988, с. 216-217). Так, глухие Адам и Ева не смогли бы создать полноценный язык жестов, такой язык мог возникнуть только после появления на свет их детей – Каина и Авеля.
Грамматический потенциал присутствует в каждом детском мозге и всегда готов к взрыву. Эта способность реализуется всякий раз, когда возникают подходящие условия, что хорошо видно на примере изолированных глухих детей, которые по счастливой случайности сталкиваются с языком жестов. В этом случае даже самое мимолетное знакомство с грамматикой мгновенно производит просто разительные изменения. Взгляд на знаки, обозначающие отношения подлежащего и дополнения, может разбудить дремлющие грамматические способности мозга и произвести настоящее извержение, приводящее к быстрому превращению системы жестов в настоящий язык. Среди детей грамматика распространяется со скоростью лесного пожара. Для того чтобы этого не произошло, нужна очень высокая степень изоляции.
44
Одержимость Массье называнием деревьев и других растений помогала ему определять их в уникальных, чувственно воспринимаемых категориях (это дуб, это «дубовость»!), но не могла помочь определять их более концептуальным способом (эге, это голосеменное растение; эге, а это крестоцветное!). Кроме того, все эти естественные категории были знакомы ему и раньше. Трудности, как правило, возникали с незнакомыми объектами, которые раньше не были частями окружавшего Массье чувственно воспринимаемого мира. У Массье это лишь намек, а более ярко проявлялось у дикого мальчика Виктора. Так, когда Итар, учитель Виктора, учил его слову «книга», Виктор воспринимал слово как некую конкретную книгу. Та же неудача постигала его при изучении других слов. Виктор неизменно называл словом вполне определенный предмет, но не категорию предметов. Сикар же сначала ввел Массье в мир образов, а уже потом перешел к «образам-концепциям» (как называл их исследователь первобытного мышления Леви-Брюль). Такие концепции по необходимости являются частными, так как по ним невозможно распознать родовой образ.
45
Л.С. Выготский родился в 1896 году в Белоруссии и, будучи еще совсем молодым человеком, опубликовал замечательную книгу по психологии искусства. Потом он обратился к систематической психологии, и за десять лет до своей смерти (он умер от туберкулеза в возрасте тридцати восьми лет) выполнил титаническую работу, которую многие из его современников (включая Пиаже) считали выдающейся, оригинальной и даже гениальной. Выготский считал развитие языка и ментальных способностей не следствием обучения в обычном смысле этого слова и не результатом эпигенетического возникновения, но феноменом социальным и опосредованным, возникающим в результате взаимодействия взрослого и ребенка и внутреннего усвоения культурного инструмента, языка, для осуществления процессов мышления.
Работы Выготского вызвали большое подозрение у марксистских идеологов, и книгу «Мышление и речь», которая вышла в свет в 1934 году, после смерти автора, через два года запретили как «антимарксистскую», «антипавловскую» и «антисоветскую». Было также запрещено упоминать его работы и научные теории, но они были сохранены усилиями его учеников и коллег, прежде всего А.Р. Лурией и А.Н. Леонтьевым. Позже Лурия писал, что знакомство с таким гением, как Л.С. Выготский, было самым значимым событием в его жизни, и он рассматривал свои изыскания всего лишь как продолжение трудов Выготского. Благодаря мужественным усилиям А.Р. Лурии, труды которого тоже в разные периоды запрещались, а сам он был вынужден пребывать во внутренней эмиграции, книга Выготского «Мышление и речь» была в конце 50-х годов издана на русском и немецком языках.
На английском языке она была издана впервые в 1962 году с введением Джерома Брюнера. Эта книга оказала определяющее влияние на труды самого Брюнера, в его работах, написанных в 60-е годы (самая известная из них «К теории обучения»), чувствуется сильное влияние Выготского. Исследования Выготского настолько опережали время в 30-е годы, что один из современников назвал его «гостем из будущего». Но в течение последних двадцати лет именно его работы явились основой для изучения развития языка и ментальных процессов (а также процесса образования) у ребенка, изучения, в котором выдающуюся роль сыграли Шлезингер и Вудс, которые сосредоточили свое внимание на глухих детях. Только теперь, в конце 80-х, собрание трудов Выготского стало впервые доступно на английском языке. Собрание вышло под редакцией Брюнера.
Дополнение (1990): Только теперь сборник статей Выготского «Дефектология», в том числе его важнейшая статья 1925 года об особенностях обучения глухих детей, опубликован на английском языке (см.: Выготский, 1991, и Нокс, 1989). С самого начала надо оговориться, что «Дефектология» – это не только неприятное слово, но и название, вводящее в заблуждение. Дело в том, что она посвящена не дефектам, но как раз чему-то противоположному – адаптации и компенсации (на самом деле ее, видимо, следовало бы назвать «интактологией»). Выготский горячо возражал против того, чтобы больных детей оценивали по их дефектам или неврологическим дефицитам, по их «минусам», он выступал за то, чтобы их оценивали по их здоровым позициям, по их «плюсам». Он не рассматривал их как дефективных, а считал их другими. «Отсталые дети представляются качественно иными, в них проявляется уникальный тип развития». Именно это качественное отличие, эта уникальность, полагал Выготский, должны определять направление усилий, направленных на образование и реабилитацию таких детей: «Если слепой или глухой ребенок достигает такого же уровня развития, как и здоровый ребенок, – пишет он, – то ребенок с дефектом достигает его другими средствами, другим путем, другим способом; для педагога особенно важно знать уникальность пути, по которому следует вести ребенка. Эта уникальность помогает трансформировать минусы отсталости в плюсы компенсации».
По Выготскому, развитие высших психологических функций не является процессом, происходящим «естественно» и автоматически. Оно требует культурной среды, передачи информации и инструментов культуры, самым важным из которых является язык. Однако при этом Выготский считает, что инструменты культуры и языки были созданы для «нормальных» людей, людей с интактными органами чувств и биологическими функциями. Что же считать лучшим для ребенка с дефицитом, для другого человека? Ключом к его развитию будет компенсация – использование альтернативного культурного инструмента. Так, Выготский приходит к особенностям обучения глухих детей: альтернативным культурным инструментом для них является язык жестов – язык жестов, который они создали сами. Он обращен к чувству, остающемуся интактным у глухих детей – к их зрению. Это самый прямой путь к контакту с глухим ребенком, самый простой способ развития его способностей и единственный, при котором можно сохранить уважение к отличию человека, к его уникальности.
46
Каспар Хаузер после своего освобождения из многолетнего заточения в бессловесности (история этого человека описана дальше в этой главе) также использовал вначале подобные метафоры в своей наивной, естественной, детской поэзии. Но его учитель, фон Фейербах, потребовал отказа от них. В истории всех народов и культур первым появляется такой первобытный поэтический язык, который затем заменяется языком более аналитическим и абстрактным. Потеря в этих случаях иногда кажется больше, чем приобретение.
Леви-Брюль пишет, что у тасманийцев «нет слов… для обозначения абстрактных идей… они не могут выразить такие качества, как твердый, мягкий, круглый, длинный, короткий и т. д. Для выражения твердости они скажут «как камень»; для выражения чего-то длинного они скажут «большая нога»; для выражения чего-то круглого – «как шар, как луна» и т. д. Свои слова они всегда сопровождают выразительными жестами перед глазами тех, к кому обращаются». Здесь невольно вспоминается, как учил язык Массье, как он говорил: «Альбер – птица», «Поль – лев», прежде чем начал применять родовые прилагательные.
47
То, что Массье воспринял идею квадрата посредством обычного слова, символа, было (осознанным или неосознанным) ответом Сикара Гоббсу, ибо Гоббс на полтора столетия раньше утверждал, что глухой может понять, что сумма углов треугольника равна сумме двух прямых углов, и даже повторить доказательство Евклида, но не сможет понять, что это универсальное свойство треугольников, ибо он не обладает словом или символом «треугольник». Не умея употреблять нарицательные существительные, не обладая абстрактным языком, полагал Гоббс, глухой не способен к обобщениям. Возможно, это и так, говорил Сикар, но если глухой начнет пользоваться нарицательными существительными, пользоваться абстрактным языком и языком жестов, то он сможет обобщать не хуже любого другого человека. Когда читаешь Сикара, невольно вспоминаешь диалоги Платона «Кратил» и «Менон». Сначала, говорит Платон, человек должен видеть реальные стулья или квадраты, то есть предметы, обладающие свойством квадратности (или какими-либо иными свойствами), и только потом усваивается идея квадратности, архетипический или идеальный квадрат, копиями которого являются все остальные конкретные квадраты. В «Меноне» невежественный, безграмотный юноша постепенно постигает азы геометрии, переходя ко все более высоким уровням абстракции, отвечая на вопросы учителя, который постоянно на шаг опережает ученика, но своими вопросами помогает ему подняться на следующую ступень. Так, для Платона язык, знание, эпистемология являются врожденными качествами – всякое обучение, по сути, есть «воспоминание», но оно становится доступно только под руководством учителя и в контексте диалога. Сикар, прирожденный учитель, не инструктировал Массье, он вел его и просвещал посредством такого диалога.
48
Подлинное сообщение Ансельма фон Фейербаха было опубликовано в 1832 году и переведено на английский язык (под заголовком «Каспар Хаузер») в 1834 году. Эта история стала сюжетом для бесчисленного множества статей, эссе, книг. Вернер Херцог снял по этой книге фильм. Эссе об этом случае содержится в книге психоаналитика Леонарда Шенгольда «Гало в небе».
49
Но такое чудо может и не произойти. Современный дикий ребенок, девочка Дженни, была найдена в Калифорнии в 1970 году. Страдавший психозом отец держал ее дома взаперти, и она ни с кем не разговаривала с раннего младенчества (см.: Кертис, 1977). Несмотря на интенсивное обучение, Дженни смогла усвоить лишь зачатки языка – несколько слов для обозначения ряда предметов, но так и не научилась задавать вопросы, хотя и овладела некоторыми рудиментарными знаниями по грамматике. Но почему у Каспара получилось все, а у Дженни почти ничего? Возможно, все дело в том, что Каспар в какой-то степени успел овладеть языком к трехлетнему возрасту, когда его заперли в подвал, Дженни же была изолирована от мира в возрасте двадцати месяцев. Вся разница определялась этим годом, в течение которого Каспар овладел речью, феномен, который мы часто замечаем у детей, оглохших в возрасте двух лет, и детей, оглохших в три года.
50
В январе 1982 года нью-йоркский суд постановил выплатить два с половиной миллиона долларов «семнадцатилетнему глухому мальчику, которому поставили диагноз «умственная отсталость» в возрасте двух лет и направили в интернат для умственно отсталых детей, где он пробыл до одиннадцатилетнего возраста. В этом возрасте его перевели в другое учреждение, где при рутинном психологическом исследовании было выявлено, что он обладает по меньшей мере нормальным интеллектом». Об этом случае сообщил Джером Шейн (Шейн, 1984). Видимо, такие случаи происходят отнюдь не редко – почти о таком же ребенке было рассказано в газете «Нью-Йорк таймс» от 11 декабря 1988 года.
Добавление (1990): Такие ошибки, как ни невероятно это звучит, могут случаться и со взрослыми. Совсем недавно в психиатрическом госпитале, где я работал, я увидел человека, оглохшего в возрасте 37 лет в результате менингита. После болезни он внезапно обнаружил, что перестал слышать и потерял способность понимать, что говорят ему другие. Он обращался к нескольким врачам, ни у одного из которых не нашлось ни времени, ни желания выслушать больного и разобраться в его состоянии. Один из врачей поставил ему диагноз «шизофрения», а другой нашел у больного умственную отсталость. Немного поработав с этим пациентом, я написал ему несколько вопросов, после чего мне стало ясно, что он не страдает ни шизофренией, ни умственной отсталостью, что он не нуждается в психиатрическом лечении, а нуждается в изучении языка жестов.
51
Когда я собрался писать о нескольких парах близнецов, вычислительных гениях (Сакс. «Близнецы», 1985), и их выдающихся арифметических способностях, мне было интересно понять, нет ли в их мозге «глубинной арифметики, описанной Гауссом… похожей на врожденный синтаксис Хомского и порождающую грамматику». Когда же я узнал о неожиданном успехе Ильдефонсо в работе с числами, я невольно вспомнил близнецов и подумал, не обладает ли Ильдефонсо врожденной, органической арифметикой, которая проснулась вследствие стимуляции числами.
Действительно, позже Шаллер писала мне о пятидесятичетырехлетнем пациенте с врожденной глухотой, который не владел языком, но зато владел арифметическими действиями. У него был потрепанный учебник арифметики, в котором он не мог читать текст, но зато легко решал примеры. Этот человек, вдвое старше Ильдефонсо, смог на шестом десятке освоить язык жестов. Шаллер задает вопрос: не помогло ли ему в этом владение принципами и символами арифметики?
Вероятно, такая арифметическая компетентность служит моделью или зачатком развития лингвистической компетентности сразу (или долгое время спустя). Одна способность облегчает овладение другой.
52
Рапен, 1979, с. 210.
53
Блаженный Августин пишет:
«Когда они (мои родители) называли какой-либо предмет и приближались к нему, я видел это и начинал понимать, что вещь названа тем звуком, какой был произнесен, когда указывали на предмет. Намерение свое они выказывали телесными движениями, как то принято в естественном языке всех людей: игрой глаз, движениями других членов тела и тональностями голоса, каковые выражают состояние нашего ума при поиске, обладании, отказе или избегании. Так, раз за разом слыша слова, употребленные в надлежащих местах в различных предложениях, я постепенно научился понимать, какие предметы они обозначают, а потом начал приучать свои уста формировать эти знаки. Я использовал их уже для выражения моих желаний» («Исповедь», I:8).
Витгенштейн замечает по этому поводу: «Августин описывает усвоение человеческого языка так, как усваивает его ребенок, попавший в чужую страну, так, словно он уже обладает знанием языка, но другого. Или: как усвоение языка ребенком, который уже способен мыслить, но еще не в состоянии говорить. Но «мыслить» – это значит «говорить самому с собой» («Философские исследования»: 32).
54
Когнитивный аспект данного превербального общения был подробно изучен Джеромом Брюнером и его коллегами (см. Брюнер, 1983). Брюнер видит в превербальных взаимодействиях и «разговорах» архетип всякого вербального общения, зародыш тех словесных диалогов, которые будут иметь место в будущем. Если такие превербальные диалоги выпадают из опыта ребенка или нарушаются, то это, считает Брюнер, может стать значительным препятствием на пути формирования способности к речевому диалогу. Именно это может произойти – и на самом деле происходит, если не принять соответствующих мер предосторожности, – с глухими детьми, которые не могут слышать мать, звуки, которые она произносит с первых дней невербального общения с ребенком.
Дэвид Вуд, Хизер Вуд, Аманда Гриффитс и Йен Ховарт особо подчеркивают это обстоятельство в своем фундаментальном исследовании глухих детей. Авторы пишут:
«Представьте себе глухого младенца, который практически не знает, что такое звук. Когда такой ребенок смотрит на какой-либо предмет, он не слышит «музыки настроения», которая сопровождает вид предметов для слышащих детей. Предположим, что ребенок затем переводит взгляд с предмета на взрослого человека, который тоже смотрит на предмет и говорит ребенку о том, что тот только что видел. Понимает ли в данном случае ребенок, что здесь уже имеет место коммуникация? Для того чтобы осознать связь между словом и его референтом, глухой ребенок должен запомнить то, что он увидел, и соотнести это впечатление с каким-то другим наблюдением. Глухой ребенок должен приложить больше труда, ибо ему приходится «открывать» связь между двумя весьма различными визуальными впечатлениями, отстоящими друг от друга во времени».
Авторы считают, что эти и другие значимые причины могут приводить к существенным проблемам общения задолго до развития речи.
Глухому ребенку глухих родителей дается шанс преодолеть эти коммуникативные трудности, ибо его родители на собственном опыте очень хорошо знают, что все общение, все игры должны быть визуальными, а детский лепет должен начинаться с жестикуляции. В этой связи Кэрол Эртинг и ее коллеги недавно убедительно продемонстрировали разницу между глухими и слышащими родителями. Действительно, у глухих детей отмечается повышенная или даже чрезмерная визуальная чувствительность, они практически с самого рождения ориентируются в мире на вид предметов и окружения, и глухие родители очень рано это осознают. У глухих детей с самого начала иная организация контактов с внешним миром, и она, эта организация, требует иной реакции родителей. Умные слышащие родители в какой-то степени распознают эту ситуацию и начинают весьма умело общаться с ребенком визуальными средствами. Но в этом деле слышащие родители, как бы сильно ни любили они своего глухого ребенка, не могут сильно преуспеть, так как сами ориентируются по большей части не с помощью зрения, а с помощью слуха. Глухому ребенку для полноценного развития его личности требуется чисто визуальное общение, и обеспечить его может только другое визуальное существо, то есть другой глухой человек.
55
Весьма детальные исследования были проведены также в Англии Вудом и его коллегами. Подобно Шлезингер, авторы считают решающей связующую роль родителей и учителей и подчеркивают, сколь часто их усилия оказываются недостаточными в общении с глухими детьми.
56
Шлезингер, Хильда. «Ростки развития. Предпосылки успехов в обучении». Работа готовится к печати.
57
Это взаимодействие является основным предметом когнитивной психологии. См. в этой связи: Л.С. Выготский. «Мышление и речь», А.Р. Лурия и Ф.Я. Юдович. «Речь и развитие ментальных процессов у ребенка», а также Джером Брюнер. «Детская речь». И конечно же (особенно в том, что касается развития эмоций, фантазии, творчества и игры), оно является предметом пристального внимания аналитической психологии. См.: Д.В. Уинникотт. «Процесс созревания и облегчающее воздействие окружающего мира»; М. Малер, Ф. Пайн, А. Бергман. «Психологическое рождение ребенка» и Дэниел Н. Стерн. «Мир межличностного общения ребенка».
58
Шлезингер, 1988, с. 262.
59
Эрик Леннеберг считает, что проблемы у глухого ребенка (и то только в речевой сфере) возникают по достижении им трехлетнего возраста и в дошкольном периоде легко поддаются коррекции. Так, Леннеберг пишет:
«Соматически здоровый глухой ребенок превосходно развивается в возрасте двух лет и старше, невзирая на неспособность к словесному общению. Эти дети достигают совершенства в пантомиме и вырабатывают изобретательные способы общения, высказывая жестами и мимикой свои желания, потребности и даже свои мнения… Почти полное отсутствие речи у таких детей не мешает им играть в самые сложные, требующие сильного воображения игры, соответствующие их возрасту. Они любят игры, требующие воображения; они строят фантастические сооружения из кубиков; они умеют играть в игрушечную железную дорогу, быстро учатся включать ее и заранее радуются тому, как поезд будет делать повороты и проезжать мосты. Такие дети любят рассматривать картинки, и никакая степень абстракции не мешает им постичь смысл и сюжет рисунка. Их собственные рисунки ничем не отличаются от рисунков их слышащих сверстников. Таким образом, когнитивное развитие, проявляющееся в игре, не отличается от развития детей, обладающих слухом и речью».
Взгляды Леннеберга считались верными в 1967 году, но они не подтвердились изысканиями, в ходе которых осуществлялось пристальное наблюдение за поведением глухих детей. Большинство исследователей согласны с тем, что у ребенка могут уже в дошкольном возрасте возникнуть большие коммуникативные и когнитивные проблемы, если ребенка как можно раньше не обучить языку. Если не предпринять специальных мер, то к возрасту пяти-шести лет глухой ребенок располагает словарным запасом в 50-60 слов, в то время как словарный запас его слышащего и говорящего сверстника равен в среднем 3000 слов. Как бы ни очаровывался глухой ребенок играми, требующими воображения, и игрушечными железными дорогами, он лишится очень многих детских радостей, если к школьному возрасту не овладеет языком. Ребенок должен общаться с родителями, с другими людьми, он должен понимать, что вообще представляет собой окружающий его мир, от которого он отрезан барьером глухоты. Во всяком случае, следует понимать одно: нужны дополнительные разработки, включающие аналитическую реконструкцию, для того, чтобы понять, что нарушается в первые пять лет жизни ребенка, если за это время он не овладевает языком.
60
Шлезингер, Хильда. «Ростки развития. Предпосылки успехов в обучении». Работа готовится к печати.
61
Не имеет существенного значения, считает Шлезингер, является ли диалог матери и ребенка речевым или осуществляется с помощью языка жестов. Главное здесь – это коммуникативное намерение. Это намерение, которое, подобно большинству намерений, является подсознательным, может заключаться в полном подавлении ребенка или, наоборот, способствовать росту, развитию, самостоятельности и воспитанию разумного отношения к жизни. Тем не менее использование языка жестов при прочих равных условиях делает более легким общение в первые месяцы и годы жизни ребенка, так как глухой ребенок усваивает язык жестов спонтанно, но не способен так же спонтанно усвоить устную речь.
Шлезингер рассматривает коммуникативное намерение как функцию «силы» – родительского чувства «силы» или «бессилия» в общении со своим ребенком. Сильные родители, согласно формулировке Шлезингер, чувствуя себя самостоятельными, передают это качество своим детям. Бессильные родители, чувствуя собственную беспомощность и подчиненное положение, проявляют авторитарность в отношении своих детей. Они, как правило, говорят ребенку, а не с ребенком. Конечно, если в семье слышащих родителей появляется глухой ребенок, они могут почувствовать себя бессильными. Как им общаться с собственным ребенком? Что они могут сделать? Что могут они сами и их ребенок ждать от будущего? К какой жизни он принудит их или, наоборот, они принудят его? В каком мире они будут жить? Самое главное здесь – это сознавать, что перед родителями стоит вопрос не принуждения, но выбора. Родители должны сделать выбор в пользу эффективного общения, будь то с помощью устной речи, языка жестов или того и другого.
62
«Для такого глухого ребенка, как Шарлотта, чтение по губам и разборчивая устная речь становятся доступными только после многих лет тяжелого упорного труда, да и то это очень сомнительно», – пишет Сара Элизабет. Таково было ее мнение после длительных раздумий и многочисленных обсуждений этой проблемы со специалистами. Однако родители другого глухого ребенка, тоже маленькой девочки, столкнувшись с такой же ситуацией и рассмотрев ее, сделали иной выбор.
Диагноз полной врожденной глухоты был поставлен Элис в возрасте семнадцати месяцев (порог восприятия для одного уха составлял 120 децибел, а для другого – 108 децибел). Родителей убедили в том, что выход заключается в изучении речи с поясняющей жестикуляцией в сочетании с мощными слуховыми аппаратами. (Речь с поясняющей мимикой и жестами, разработанная Орином Корнеттом, использует простые жесты, производимые рукой возле рта для того, чтобы облегчить распознавание звуков, неразличимых при чтении по губам.) Элис хорошо освоила эту речь, так как сумела овладеть большим словарным запасом и отлично выучила грамматику, и к пятилетнему возрасту овладела таким уровнем экспрессивного языка, что на двадцать месяцев опередила многих детей своего возраста. Элис хорошо читает и пишет, мало того, это занятие доставляет ей удовольствие. Она хорошо успевает в школе (рядом с ней на уроке сидит переводчик на вспомогательный язык). Родители описывают свою дочь как «умную, хорошо приспособленную к жизни, общительную и успешную девочку». Правда, родители боятся, что в школе Элис окажется в изоляции от сверстников.
Но, несмотря на прекрасные способности к языку, способность Элис к общению оказалась ограниченной. Она подкрепляет речь жестами, но понять ее трудно, речь «рубленая». Девочка к тому же глотает множество звуков. Хорошо понимают ее только родители и учителя, только те, кто владеет речью с поясняющей жестикуляцией, а таких людей в окружении девочки немного. Кроме того, Элис испытывает затруднения при чтении речи с губ: чтение по губам – это не только визуальный навык, в 75 процентах случаев это чистое отгадывание; чтение по губам лучше дается позднооглохшим, так как они знают, как должен «выглядеть» тот или иной звук; куда труднее это искусство дается детям с врожденной или ранней глухотой. Несмотря на то что Элис постоянно находится в окружении слышащих, она все же сталкивается со множеством трудностей, и главная угроза для нее – угроза изоляции. Жизнь дома, в окружении понимающих и любящих родителей и других членов семьи до пятилетнего возраста предъявляла девочке сравнительно мягкие требования, но дальнейшая жизнь стала очень трудна. В школе с каждым годом проблемы ребенка с сильно нарушенными речью и слухом будут только усугубляться.
Родители Элис – трезвомыслящие люди, но они не принуждали ребенка к изучению и использованию поясняющего языка жестов и даже не ожидали, что девочка с такой легкостью им овладеет. Родители отчетливо сознают, какого будущего они ждут для своей дочери. «Я хочу, чтобы она шла по жизни своей дорогой, какая ей нравится, – говорит ее отец, – но, конечно, я хочу, чтобы она осталась в мире слышащих, чтобы она вышла замуж за слышащего человека и т. д. Но она станет сильнее, если будет общаться с глухими. Она очень любит язык жестов, и ей нужно общаться с другим носителем этого языка. Я очень надеюсь, что она будет чувствовать себя как дома в обоих мирах – в мире глухих и в мире слышащих». Надо надеяться, что Элис сможет в совершенстве овладеть и традиционным языком жестов, и делать это надо как можно скорее, потому что еще немного, и она не сможет овладеть им в совершенстве. Если же она этого не сделает, то рискует остаться чужой в обоих мирах.
63
Ясно, что реальность не «дается» нам, мы должны сами ее строить, причем строить нашим особым способом. Строя свою реальность, мы руководствуемся нашей культурой и правилами того мира, в котором живем. Естественно, наш язык будет воплощать в себе взгляды нашего мира – то есть тот способ, каким мы ощущаем и строим реальность. Но не идет ли язык еще дальше – не определяет ли он наше мировоззрение? В этом заключается суть выдвинутой Бенджамином Ли Уорфом гипотезы: язык предшествует мышлению, он является главным детерминантом мышления и реальности. Уорф доводит свою гипотезу до логического конца: «Изменения в языке могут преобразить наши представления о космосе». (Например, сравнивая временные системы английского языка и языка хопи, Уорф утверждал, что носителям английского языка ближе ньютоновская картина мира, а носителям языка хопи релятивистская картина мира Эйнштейна.) Этот тезис привел ко множеству недоразумений и противоречий, а также к высказываниям откровенно расистского толка; но, как пишет Роджер Браун, «интерпретировать данное утверждение весьма трудно», ибо мы не обладаем адекватными самостоятельными определениями мышления и языка.
Однако отличия между самыми разными по строю языками можно считать пренебрежимо малыми в сравнении с разницей между языком устной речи и языком жестов. Язык жестов отличается от устного языка происхождением, а также биологическим способом высказывания. Эта разница глубже, нежели мог себе представить Уорф. Использование визуального языка может определять или, во всяком случае, видоизменять процесс мышления тех, кто говорит на языке жестов, и придает им уникальную способность к непереводимому, гипервизуальному стилю познания.
64
Это напомнило мне об одном случае из жизни Генрика Ибсена. Однажды он с другом шел по незнакомому им обоим дому. Ибсен вдруг обратился к другу и спросил: «Что было в комнате, которую мы только что прошли?» Друг очень смутно помнил ее обстановку, но Ибсен сумел описать комнату и все, что в ней находилось, в мельчайших подробностях, а потом тихо произнес, словно обращаясь к самому себе: «Я всегда все замечаю».
65
Более ранние концепции грамматики (как, например, учебные латинские грамматики, которыми до сих пор мучают школьников) были основаны на механической, а не на творческой концепции языка. «Грамматика» Пор-Рояля рассматривала грамматику как креативный феномен, толкуя об «этом чудесном изобретении, с помощью которого мы строим из 25-30 звуков бесконечное число выражений, каковые, не обладая ни малейшим сходством с тем, что происходит в наших умах, тем не менее позволяют нам посвящать других в тайны наших мыслей и вообще заниматься любой умственной деятельностью».
66
Майклбаст (H. Myklebust), 1960.
67
Стоит задуматься, нет ли здесь некоторой врожденной интеллектуальной (если не сказать, физиологической) трудности. Нелегко вообразить грамматику в пространстве (или грамматизацию пространства). Такая концепция просто не рассматривалась до того, как ее в 70-е годы разработали Эдвард С. Клима и Урсула Беллуджи, и была незнакома даже глухим, которые издавна пользовались этим грамматическим пространством. Невероятная трудность, с которой мы способны даже вообразить себе пространственную грамматику, пространственный синтаксис, пространственный язык, вообразить лингвистическое использование пространства, коренится в том, что «мы» (слышащие, не владеющие языком жестов), лишенные личного чувственного опыта грамматизованного пространства (на самом деле у нас даже нет соответствующего мозгового субстрата), физиологически не способны его себе представить (так же как мы не в состоянии представить себе, что значит носить хвост или видеть в инфракрасном диапазоне).
68
Интересным подтверждением взглядов Стокоу являются ручные «оговорки». Эти ошибки в представлении знаков никогда не бывают произвольными, неверные движения или форма кисти не являются придуманными, они всегда являются элементами языка жестов, но неверно примененными. Такие ошибки полностью соответствуют фонематическим оговоркам в устной речи.
Помимо этих ошибок, представляющих собой неосознанную транспозицию сублексических элементов, интересны также образцы остроумия и поэтики, характерные для носителей языка жестов. Эти люди осознанно и творчески играют жестами и их составляющими. Понятно, что такие носители языка жестов имеют интуитивное представление о его структуре.
Еще одним (хотя, может быть, и несколько экстравагантным) свидетельством синтаксической и фонематической структуры языка жестов служит «знаковая окрошка», которую можно наблюдать при шизофренических психозах. В этих случаях знаки языка расщепляются, элементы переставляются местами, появляются странные неологизмы и грамматические искажения, которые, впрочем, подчиняются основным законам языка. Точно то же самое происходит при шизофрении у носителей устной речи, когда они начинают продуцировать «словесную окрошку».
Мне также приходилось наблюдать выделение и преувеличение различных фонематических составляющих знаков (судорожное изменение положения руки или вынужденное изменение направления руки при сохранении формы кисти или наоборот) у девятилетней глухой девочки с синдромом Жиля де ла Туретта; такие же судорожные изменения слов можно наблюдать у слышащих детей, страдающих этим синдромом.
69
Надо иметь в виду, что нотация Стокоу была именно нотацией, подобной фонетической нотации, и предназначалась для научных целей, а не для широкого использования. (Некоторые системы нотации, предложенные с тех пор, очень громоздки. Для передачи короткой фразы на языке жестов может потребоваться целая страница.) Письменной формы языка жестов в строгом смысле этого слова никогда не существовало. Некоторые специалисты вообще сомневаются, что такую форму можно создать. Как заметил по этому поводу сам Стокоу: «Глухой хорошо почувствует, что любая попытка представить двумерным письмом язык, синтаксис которого использует три пространственные координаты и координату времени, едва ли стоит таких титанических усилий – если это вообще возможно» (личное сообщение, 1987).
Однако совсем недавно новая система записи знаков языка жестов – «жестовый шрифт» (Sign-Font) – все же была создана группой из университета Сан-Диего (см.: Ньюкирк, 1987, и Хатчинс и соавторы, 1986). Использование компьютера позволило придать огромному числу знаков, их модуляциям и «интонациям» более адекватную письменную форму, что раньше считали принципиально невозможным. Sign-Font – это попытка представить в полном объеме выразительность языка жестов; пока, однако, рано говорить, найдет ли эта система признание в сообществе глухих.
Если Sign-Font или другая система письменного языка жестов будет принята глухими, то они смогут создать свою собственную литературу, что углубит их общность и поднимет культуру на новую ступень. Интересно, что такая перспектива занимала еще Александра Грэхема Белла: «Другой способ консолидации глухих и немых в отдельный общественный класс заключается в создании письменности, основанной на языке жестов. Тогда глухонемые получат литературу, отличную от литературы всего остального мира». Отношение Белла к такой перспективе было сугубо негативным, так как она могла привести к «возникновению глухой ветви рода человеческого».
70
То же самое случилось с замечательной статьей Бернарда Тервоорта о голландском языке жестов, опубликованной в Амстердаме в 1952 году. В то время на эту блестящую работу просто не обратили внимания.
71
Помимо громадного числа грамматических видоизменений, которым могут подвергаться жестовые знаки (например, для корневого знака ВЗГЛЯД таких видоизменений могут быть сотни), действительный словарь языка жестов намного богаче словарного состава любого другого языка. В наши дни языки жестов возникают быстро и повсеместно (особенно это верно в отношении самых новых, таких, например, как израильский язык жестов). В языках жестов непрерывно увеличивается число неологизмов; некоторые из них являются заимствованиями из английского языка (или других живых разговорных языков), некоторые являются пантомимическими изобретениями, некоторые появляются по каким-то непосредственным поводам, но почти все они построены с помощью обычного инструментария языка жестов, описанного Стокоу. Эти явления были подробно изучены Урсулой Беллуджи и Доном Ньюкирком.
72
Зрительные образы не являются механическими или пассивными, как фотографии; они скорее являются аналитическими конструкциями. Детекторы элементарных признаков – вертикальных и горизонтальных линий, углов и т. д. – были впервые описаны Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелом. На более высоком уровне образ, должно быть, составляется и структурируется с помощью того, что Ричард Грегори назвал «визуальной грамматикой» (см. «Грамматику зрения» в книге Грегори, 1974).
Вопрос, поставленный Урсулой Беллуджи и ее коллегами, заключается в следующем: имеет ли язык жестов такую же порождающую грамматику, как и устная речь? Имеет ли он такую же неврологическую и грамматическую основу? Поскольку глубинная структура языка, постулированная Ноамом Хомским, математически абстрактна, ее можно приложить в принципе к внешней структуре любого языка – визуального, тактильного, обонятельного и т. д. В данном случае дело вовсе не в модальности языка как такового.
Большей фундаментальностью отличается вопрос, поднятый Эдельманом: нужен ли вообще для развития языка какой-либо врожденный и организованный определенными правилами базис? Не работает ли мозг и сознание радикально иным способом, создавая необходимые ему лингвистические категории и взаимосвязи так же, как, по терминологии Эдельмана, он создает категории восприятия «непоименованных» объектов мира, ничего априори о них не зная? (Эдельман, 1990).
73
Вопрос о том, обладают ли какие-либо животные виды языком, допускающим «бесконечные комбинации из конечного набора средств», остается спорным и дискуссионным. Как невролог, я в свое время был очень заинтересован сообщениями об афазии у обезьян, что позволяет предполагать, что неврологические предпосылки для формирования языка развились в животном царстве до появления человека (см.: Хефнер и Хефнер, 1988).
Шимпанзе не способны говорить, так как их голосовой аппарат приспособлен лишь для воспроизведения весьма грубых и примитивных звуков, но очень хорошо обучаются языку жестов, осваивая словарь из нескольких сотен знаков. В случае карликовых шимпанзе такие знаки или, если угодно, символы могут употребляться спонтанно и усваиваться другими членами стада. Нет никакого сомнения в том, что эти приматы способны воспринимать, использовать и передавать жестовый код. Обезьяны могут строить простые метафоры и творчески комбинировать знаки (это было подтверждено наблюдениями за многими шимпанзе, включая знаменитых Уошу и Нима Шимски). Но является ли, строго говоря, такое средство общения языком? Представляется весьма сомнительным, что шимпанзе обладают языковыми способностями в понятиях синтаксической компетенции и порождающей грамматики. (Правда, Сэвидж-Рэмбо считает, что, возможно, узконосые приматы обладают начатками протограмматики; см.: Сэвидж-Рэмбо, 1986.)
74
(См.: Хомский, 1968, с. 26.) Интеллектуальная история такой порождающей или «философской» грамматики и самого понятия «врожденных идей» вообще очень талантливо обсуждается Хомским – он тщательно анализирует труды своих предшественников для того, чтобы понять свое место в этой интеллектуальной традиции; в особенности показательны в этом отношении его «Картезианская лингвистика» и Бекмановские лекции, опубликованные в виде книги «Язык и сознание». Великая эра «философской грамматики» началась в XVII веке и достигла своего апогея в Пор-Рояле в 1660 году. Наша современная лингвистика, полагает Хомский, могла бы возникнуть именно тогда, но ее развитие было заторможено торжеством мелкого эмпиризма. Если идею врожденной предрасположенности распространить с языка на мышление, то учение о врожденных идеях (то есть о структурах мозга, которые, активируясь, организуют форму опыта) можно проследить у Платона, а потом у Лейбница и Канта. Некоторые биологи считали такую концепцию врожденности исключительно важной для объяснения форм органической жизни. Особенно заметен этот взгляд у этолога Конрада Лоренца, которого Хомский цитирует в этом контексте (Хомский, 1968, с. 81):
«Адаптация априори к реальному миру происходит из «опыта» не в большей степени, нежели адаптация рыбьего плавника к свойствам воды. Так же, как априори задается форма плавника, до того как конкретная рыба впервые столкнется с водой, и именно эта форма делает возможным плавание рыбы в воде, так же обстоит дело и с нашими формами восприятия и категорий в нашем отношении к столкновению с реальным внешним миром через чувственный опыт».
Другие ученые рассматривают опыт не просто как запуск, но как сотворение форм переживания и категорий.
75
Хомский, 1968, с. 76.
76
Положение о «критическом возрасте» усвоения языка было введено в науку Леннебергом: его гипотеза заключалась в том, что если язык не усвоен к подростковому возрасту, то человек никогда не сможет им овладеть – во всяком случае, с подлинным совершенством природного носителя. В популяции слышащих вопрос о критическом возрасте возникает крайне редко, ибо практически все слышащие дети, даже страдающие задержкой развития, вполне овладевают языком к пятилетнему возрасту. Проблема с критическим возрастом чаще возникает у глухих детей, которые либо вовсе не слышат своих родителей, либо слышат настолько плохо, что не могут осмыслить и понять сказанное. В особенности это касается детей, которых не учат языку жестов. Есть данные, согласно которым те, кто выучивает язык жестов поздно (то есть в возрасте старше пяти лет), не могут изъясняться на нем так же бегло и без усилий, как это делают дети, которые учатся этому языку с рождения, у своих глухих родителей.
Из этого правила есть исключения, но это именно исключения. Можно принять, что дошкольный возраст является решающим в усвоении языка и что контакт с языком должен начаться как можно раньше, что дети с врожденной или ранней глухотой должны идти в детские сады, где учат языку жестов. Можно поэтому сказать, что Массье в свои тринадцать лет и девять месяцев был на границе критического возраста, а Ильдефонсо давно из него вышел. То, что они оба сумели в позднем возрасте освоить язык, можно, конечно, объяснить сохранившейся нейронной пластичностью; однако более интересной представляется гипотеза, согласно которой система домашних жестов, выработанная Ильдефонсо и его братом, или жесты, которыми Массье объяснялся со своими глухими братьями и сестрами, послужили своего рода протоязыком, сохранившим их языковую компетентность, которая окончательно пробудилась от спячки в результате контакта с истинным языком жестов много лет спустя. (Итар, врач и учитель Виктора, дикого мальчика, тоже постулировал наличие критического периода для усвоения языка, чтобы объяснить неудачу в обучении Виктора членораздельной речи и ее пониманию.)
77
См.: Корина, 1989.
78
См.: Леви-Брюль, 1966.
79
Так как большая часть исследований, посвященных языку жестов, проводится в Соединенных Штатах, то и выполняются они на материале американского языка жестов, хотя ученые изучают и другие языки жестов (датский, китайский, русский, британский). Считается, что нет никаких причин полагать, что они чем-то принципиально отличаются от американского, вероятно, все они относятся к одному классу визуально-пространственных языков.
80
По мере того как человек изучает язык жестов или по мере того как он привыкает к его виду, он начинает видеть фундаментальную разницу между языком жестов и обычной жестикуляцией и больше никогда в жизни их не спутает. Я нашел эту разницу особенно поразительной в Италии, где, как все знают, люди склонны к преувеличенной, обильной и театральной жестикуляции. Итальянский язык жестов строго ограничен своими лингвистическими пространственными рамками, определен лексическими и грамматическими правилами обычного языка жестов и начисто лишен театрального «итальянского» налета: разница между паралингвистической склонностью к жестикуляции и настоящим языком жестов бросается в глаза даже неподготовленному человеку.
81
См.: Лидделл и Джонсон, 1989, 1986.
82
Стокоу, 1979.
83
Стокоу описывает и некоторые из этих сложностей:
«Когда три или четыре человека в естественных условиях общаются между собой на языке жестов… пространственные трансформы ни в коем случае не являются простыми ротациями в развернутом на 180 градусов трехмерном пространстве; при этом возникают ориентации, которые могут быть невидимы и непонятны человеку, не владеющему языком жестов. После того как в трехмерном пространстве поля зрения говорящего происходят все трансформы, видимые наблюдающему собеседнику, мысль говорящего передается наблюдающему собеседнику. Если мы сможем описать все траектории всех движений говорящего – направления и изменения направлений движения пальцев, кистей, предплечий, все нюансы движений глаз, головы, все подробности лицевой мимики, – то мы сможем описать феномен, с помощью которого мысль преобразуется в язык жестов. Эту суперпозицию семантики на пространственно-временное разнообразие надо выделить и исследовать, если мы хотим понять, как язык и мышление взаимодействуют с телом».
84
«В настоящее время мы анализируем трехмерные движения, используя следящую компьютерную систему, позволяющую быстро и с высоким разрешением оцифровывать движения кистей и рук. Оптоэлектронные камеры фиксируют положения светодиодов, прикрепленных к рукам и кистям, и обеспечивают немедленную передачу цифровых данных в компьютер, который и рассчитывает трехмерные траектории» (Пойзнер, Клима и Беллуджи, 1987, с. 27). См. рис. 2.
85
Несмотря на то что усвоение языка происходит подсознательно, оно все же представляет собой очень сложную задачу, и, несмотря на большую разницу в модальности, усвоение языка жестов глухими детьми сильно напоминает усвоение детьми слышащими устной речи. В частности, в обоих случаях грамматика усваивается одинаково, практически внезапно, когда происходит реорганизация высшей нервной деятельности, приводящая к скачку в мышлении и развитии. Ребенок переходит от жеста к языку, от примитивного указания предметов к лингвистической системе. Это случается в том же возрасте (от двадцати одного до двадцати четырех месяцев) и таким же образом вне зависимости от того, осваивает ребенок устную речь или язык жестов.
86
Элисса Ньюпорт и Тед Супалла показали (см.: Раймер, 1988), что люди, поздно научившиеся языку жестов, то есть в возрасте старше пяти лет, несмотря на то что умело им пользуются, никогда не овладевают всеми тонкостями и нюансами, способностью «видеть» некоторые из его грамматических сложностей. Возникает впечатление, что развитие особой лингвистически-пространственной способности, особой функции левого полушария мозга, возможно в полном объеме только в первые два года жизни. То же самое верно и для устной речи, и для языка вообще. Если язык жестов не усвоен в первые пять лет жизни, то у говорящего на нем отсутствуют беглость и правильность, характерные для прирожденного носителя этого языка. У поздно освоившего язык уже утрачены некоторые грамматические способности. Напротив, если ребенок с самого раннего детства сталкивается с языком жестов (пусть даже несовершенным, например, в случае, если им не в полной мере владеют его родители), то он все равно в совершенстве овладевает грамматикой – это еще одно доказательство того, что в раннем детстве человек обладает врожденной грамматической способностью.
87
Пророк неврологии Хьюлингс-Джексон сто лет назад писал: «Нет сомнения, что при заболеваниях некоторых отделов мозга глухонемые могут терять свою естественную систему знаков, каковая в какой-то степени заменяет им язык». Хьюлингс-Джексон считал, что при этом должно поражаться левое полушарие мозга.
88
Сходство речевой и жестовой афазии можно проиллюстрировать недавним случаем, о котором сообщили Дамасио и его коллеги. Молодой слышащей женщине, переводчице с языка жестов, страдающей эпилепсией, провели Wada-тест (введение амитал-натрия в левую сонную артерию для выяснения вопроса о том, является ли левое полушарие у испытуемого доминирующим). В результате у женщины возникла преходящая афазия, как речевая, так и жестовая. Способность говорить по-английски восстановилась через четыре минуты, на восстановление способности изъясняться на языке жестов ушло на несколько минут больше. Во время процедуры больной проводили ПЭТ. Таким способом удалось показать, что в продукции речи и в продукции языка жестов задействованы приблизительно те же области левого полушария, хотя в обработке жестовой информации участвует более обширная область, охватывающая, помимо височной, еще и левую теменную долю.
89
Есть данные, говорящие о том, что язык жестов может принести пользу в ведении страдающих аутизмом детей, которые не могут или не хотят говорить, и может дать этим детям такие возможности в общении, какие раньше казались для них недостижимыми. (Бонвиллиан и Нельсон, 1976). Изабель Рапен видит причину этого феномена в том, что у аутичных детей имеются специфические поражения в слуховой сфере, а зрительная сфера сохранена лучше.
Несмотря на то что язык жестов не может помочь людям, страдающим афазией, он может оказаться полезным для детей с задержкой речевого развития и для стариков с сенильной деменцией и расстройствами речи. Отчасти это связано с графической и наглядной выразительностью языка жестов, а отчасти – с относительной простотой его движений в сравнении с невероятной сложностью и согласованностью движений при продукции устной речи.
90
Есть и другие способы создания такого формального пространства, как и усиления визуально-когнитивной функции вообще. Так, с распространением за последнее десятилетие компьютеров появилась возможность организовывать и перемещать логическую информацию в (компьютерном) «пространстве», создавать (а также вращать и иным образом трансформировать) сложнейшие трехмерные модели или фигуры. Это привело к появлению нового рода навыков – к способности создавать совокупности мысленных образов (в частности, мысленно представлять топологические преобразования) и к способности к визуально-логическому мышлению, которое раньше, в докомпьютерную эру, встречалось очень редко. С помощью компьютера практически каждый может стать экспертом в этой области, по крайней мере каждый, кому еще не исполнилось 14 лет. После этого возраста трудно научиться искусству пространственного воображения, так же как трудно овладеть чужим языком до такой степени, чтобы свободно говорить на нем. Родители все чаще и чаще обнаруживают, что их дети могут стать компьютерными кудесниками, а сами они нет. Вероятно, это еще один пример «критического возраста». Представляется, что для усиления визуально-когнитивной и визуально-логической функции требуется раннее смещение доминирования к левому полушарию мозга.
91
Способ этот хоть и новый, но потенциально универсальный. Ибо в Мартас-Винъярд все население – и слышащее, и глухое – смогло стать носителями языка жестов. Следовательно, способность, то есть нейронный аппарат, усвоить пространственный язык (и все сопутствующие нелингвистические пространственные навыки) есть практически у каждого человека.
Существует, должно быть, великое множество нейронных потенциалов, с которыми мы рождаемся и которые могут развиться или зачахнуть в зависимости от потребности. Развитие нервной системы, а в особенности коры головного мозга, оставаясь в рамках генетической обусловленности, направляется и формируется ранним опытом. Так, способность к различению фонем необычайно высока в первые шесть месяцев жизни, а потом ограничивается фонемами той речи, какой ребенок окружен в действительности. Поэтому японские дети перестают различать фонемы «л» и «р», а американские перестают различать японские фонемы. Дело при этом не в том, что нам не хватает нейронов; нет никакой опасности истощения запаса нейронов из-за развития какого-то одного потенциала, как нет и риска, что это затормозит развитие других потенциалов. Напротив, есть основательная причина для создания возможно более богатого в лингвистическом отношении (как и во многих других отношениях) окружения в период наибольшей пластичности мозга ребенка.
92
Это лингвистическое использование лица представляет особый аспект языка жестов и не имеет ничего общего с обычной экспрессивной мимикой, да и основано оно на совершенно иных нейронных механизмах, что было недавно показано в опытах Дэвида Корины. Изображения лиц, выражения которых можно было трактовать как «аффективные» или «лингвистические», предъявляли с помощью тахископа поочередно в правом и левом поле зрения глухим и слышащим испытуемым. Слышащие испытуемые обрабатывали «лингвистические» выражения правым полушарием, а глухие отдавали предпочтение левому при декодировании «лингвистических» выражений.
Немногие исследованные случаи поражений головного мозга у глухих показывают ту же диссоциацию при восприятии аффективных и лингвистических выражений лиц. Так, при поражениях левого полушария носителей языка жестов лингвистические «предложения» на лицах становятся непонятными и неразличимыми (это является составной частью знаковой афазии у носителей языка жестов), но при этом полностью сохраняется способность распознавать аффективные изменения в выражении лица. И наоборот, при поражениях правого полушария возникает неспособность распознавать лица и читать их обычное, экспрессивное или аффективное выражение (то есть развивается обычная прозопагнозия). Тем не менее в последнем случае сохраняется способность к беглому владению языком жестов.
Эта диссоциация в восприятии аффективных и лингвистических выражений лиц распространяется и на способность воспроизводить такие выражения. Так, один больной с поражением правого полушария, обследованный группой Беллуджи, был способен воспроизводить лингвистические выражения лица, но потерял способность к мимической экспрессии и к мимическому аффекту.
93
Древнее, как мир, знание о том, что утрата слуха приводит к обострению зрительного восприятия, нельзя приписать использованию языка жестов. Все глухие, даже поздно оглохшие, остающиеся в мире слышащих и говорящих, становятся своего рода виртуозами визуального восприятия, ориентируясь в жизни исключительно за счет зрения, как это описывает, например, Дэвид Райт:
«Я не стал замечать больше, но стал замечать по-другому, не так, как раньше. То, что я вижу, я вижу обостренно, так как зрительная картина – это единственное, что помогает мне интерпретировать и понимать происходящее. В том, что касается неодушевленных предметов, я ориентируюсь по их движениям; в том, что касается животных и людей, мне в моих суждениях приходится принимать в расчет позу, выражение лица, походку, жесты… Например, когда слышащий человек с нетерпением ждет, пока его друг закончит телефонный разговор, он судит о скором окончании разговора по произнесенным словам и по интонации. Глухой же ведет себя как человек, стоящий в очереди у стеклянной будки телефона-автомата и ожидающий, когда закончится происходящий там разговор. В этом случае тоже приходится по каким-то признакам судить о том, что скоро говорящий попрощается с собеседником и повесит трубку на рычаг. Ожидающий внимательно следит за рукой, держащей трубку, подмечает расстояние от головы до микрофона, видит, как говорящий нетерпеливо переступает с ноги на ногу, следит за выражением лица, которое сигнализирует о принятом решении. Глухой человек, лишенный возможности судить о мире по звукам, учится читать самые мелкие зрительные признаки».
Такое же обострение зрительного восприятия происходит у слышащих детей глухих родителей. Вот, например, случай, описанный доктором Арлоу:
«Мой пациент с самого раннего детства привык внимательно всматриваться в лица своих родителей… Он выработал в себе высокую чувствительность, чтобы понять их намерения и желания по выражениям лиц. Так же как его глухой отец, он тонко воспринимает мимику и может достоверно судить о намерениях и искренности тех людей, с которыми ему приходится иметь дело. Он считает, что такая способность дает ему большие преимущества в сравнении с его деловыми партнерами».
94
Не надо в связи с этим думать, будто все визуально-когнитивные функции у глухих носителей языка жестов перемещаются в левое полушарие. Разрушительное действие поражений правого полушария на способность пользоваться языком жестов говорит о том, что это полушарие также играет важную роль в способности говорить на языке жестов. С.М. Косслин недавно предположил, что левое полушарие отвечает за порождение образов, а правое – за их модуляцию и трансформацию; если это так, то поражения противоположных полушарий может повреждать разные компоненты совокупности ментальных образов и ментального представления пространства в процессе пользования языком жестов. Беллуджи и Невилль планируют проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, действительно ли такие дифференциальные эффекты (как в отношении простого зрительного восприятия, так и в отношении сложных форм зрительных образов) имеют место при поражениях одного или другого полушария мозга носителей языка жестов.
95
Невилль пока смогла подтвердить такое перераспределение только электрофизиологическими исследованиями (планируется также проведение позитронной эмиссионной томографии). Но одновременно недавно было получено поразительное доказательство анатомических изменений. Так, если у новорожденных хорьков перерезают связи слуховых ядер (то есть вызывают у них раннюю центральную глухоту), то многие слуховые пути и центры подвергаются трансформации и становятся зрительными по своей морфологии и функции (Sur et al., 1988).
96
Леннеберг, высказываясь по поводу возраста, критического для усвоения языка, которое он связывает с установлением доминирования определенного полушария, говорит о нормальной латерализации, которая происходит у больных с врожденной глухотой к семилетнему возрасту, при условии, что они овладевают языком жестов. Иногда, однако, такой латерализации не происходит или она происходит лишь частично. Вероятно, пишет Леннеберг, «в эту категорию попадают в большом числе случаев лингвистически некомпетентные люди с врожденной глухотой».
Раннее усвоение языка, устного или языка жестов, стимулирует лингвистические возможности левого полушария, а недоступность языка, частичная или абсолютная, задерживает развитие и дифференцировку левого полушария.
97
В XVII веке Кудворт писал о том, как умелый и опытный портретист найдет много изящного и любопытного в портрете, восторгаясь несколькими мазками и полутенями там, где взгляд профана не разглядит ровным счетом ничего; точно так же и музыкант, услышавший, как группа других музыкантов играет какую-нибудь красивую композицию, будет восхищен множеством гармоничных пассажей, недоступных грубому уху непосвященных. (Кудворт, «Трактат о вечной и неизменной нравственности», цит. по: Н. Хомский, 1966).
Появление способности перейти от «взгляда профана» или «грубого уха» к художественному мастерству и опыту возможно только при переходе доминирования от правого к левому полушарию. Есть убедительные доказательства (основанные на изучении последствий поражений головного мозга, как это делал А.Р. Лурия, или на экспериментах по дихотическому прослушиванию звуков) того, что в то время как музыкальное восприятие является функцией правого полушария у неискушенных слушателей, оно становится функцией левого полушария у профессиональных музыкантов и «опытных» слушателей (людей, понимающих «грамматику» и правила; слушателей, для которых музыка становится сложной формальной структурой). Особое умение слушать требуется от людей, говорящих на китайском или тайском языках, морфология которых основана на тональном различении фонем, которого не знают европейские языки. Есть доказательства того, что различение тональностей (которое обычно является функцией правого полушария) является у тайцев функцией полушария левого. Тайцы лучше понимают речь на родном языке, если слушают ее правым ухом (то есть левым полушарием), и способность к пониманию сильно нарушается при инсультах, локализованных в левом полушарии мозга.
Такой же сдвиг происходит у людей, становящихся специалистами в математике или арифметике и приобретающих способность видеть математические концепции и числовые зависимости как часть огромной, хорошо организованной вселенной или схемы. То же самое верно и в отношении художников и дизайнеров по интерьеру, которые видят в пространстве и взаимоотношениях предметов то, что недоступно неискушенному глазу. Все это равно относится и к людям, умеющим насвистывать, или знающим азбуку Морзе, или профессионально играющим в шахматы. Все высшие достижения художественного и научного интеллекта так же, как и банальные игровые навыки, требуют репрезентативных систем, которые функционируют как язык и развиваются так же, как и он. Все эти способности и навыки становятся функциями левого полушария.
98
В настоящее время существует весьма значительная по объему и довольно противоречивая литература, посвященная характеру когнитивных функций у глухих. Спор идет о том, существует ли в действительности «глухой разум». Существуют определенные данные в пользу того, что повышенная зрительная наблюдательность предрасполагает глухих к специфически «зрительным» (или логико-пространственным) формам мышления и памяти. Так, сталкиваясь со сложными проблемами, требующими нескольких стадий решения, глухие выстраивают проблемы и свои гипотезы в логическом пространстве, в то время как слышащие выстраивают их во временном (или «слуховом») порядке (см., например: Белмонт, Кархмер и Бург, 1983).
С культурологической точки зрения понятно, что глухая ментальность, в том смысле, в какой мы говорим о еврейской или японской ментальности, отличается от других особой чувствительностью, образностью, перспективами и убеждениями, верованиями. Но, говоря о еврейской или японской ментальности, мы не имеем в виду какую-то основополагающую неврологическую разницу между ними, в то время как такая разница существует в отношении ментальности глухих. Есть очень много глухих инженеров, архитекторов и математиков, обладающих повышенными способностями к графическим изображениям и к объемному, трехмерному, мышлению, мысленному представлению трехмерных трансформ и к построению сложных топологических и абстрактных пространств. Вероятно, эти способности обусловлены неврологической предрасположенностью, нейропсихологической и когнитивной структурой ментальности глухих.
Слышащие дети глухих родителей, первым языком которых становится язык жестов, демонстрируют поразительное усиление зрительных способностей, несмотря на то что превосходно слышат. Таких детей можно назвать не только «билингвами», но и «бименталами» в том смысле, что им доступны различные способы ментальной обработки информации. Определенно многие из них могут сказать о «переключении» не только с устного языка на язык жестов, но и с одного способа мышления на другой в зависимости от своего желания или удобства. Некоторые, как, например, Дебора Х., переключаются с одного способа на другой в зависимости от потребностей мышления. Было бы очень интересно и дальше исследовать этот феномен, чтобы понять, например, соответствует ли такое «переключение» одновременному смещению нейрофизиологических функций в головном мозге – от слухового модуса к зрительному и наоборот.
99
Пойзнер, Клима и Беллуджи, 1987, с. 206.
100
Эта дихотомия напоминает брюнеровское разделение на «повествовательное» и «парадигматическое», каковые характеристики он считает основополагающими для мышления (см.: Брюнер, 1986). Есть искушение рассматривать повествовательное мышление как функцию правого полушария, а парадигматическое – как функцию левого полушария. У детей с задержкой умственного развития может быть замечательно развита способность к повествовательному языку и мышлению, но на фоне значительных нарушений парадигматического языка и мышления (см.: Сакс, 1985).
101
Представляется, что этот феномен представлен языком Дженни, который обладает бедным синтаксисом, но относительно богатой лексикой:
«Язык Дженни напоминает правополушарный язык. Тесты по дихотическому прослушиванию звуковых стимулов подтверждают, что ее язык действительно является правополушарным. Следовательно, случай Дженни указывает на то, что по прошествии “критического периода” левое полушарие утрачивает способность к усвоению языка и правое полушарие берет на себя доминирование и функцию усвоения и представления языка» (Кертис, 1977, с. 216).
102
См.: Шлезингер, 1987.
103
Недавно в графстве Принс-Джордж, штат Мэриленд, был проведен образовательный эксперимент: преподавание языка жестов в детских садах и первых классах школ для слышащих детей. Дети охотно и легко усваивали язык; при этом у них улучшалась способность к чтению и легче усваивались и другие навыки. Вероятно, более легкое обучение чтению, улучшение способности к распознаванию форм слов и букв идут рука об руку с развитием пространственно-аналитических способностей, которые развиваются при обучении языку жестов.
Даже взрослые (слышащие) люди, приступая к изучению языка жестов, начинают замечать происходящие в них изменения: появляется предрасположенность к более живым визуальным описаниям, улучшение способности к зрительному воображению, а зачастую и улучшение телесной экспрессии. Было бы интересно посмотреть, происходит ли у таких взрослых людей такое же усиление вызванных зрительных потенциалов, какие Невилль обнаружила у слышащих, обучавшихся языку жестов с самого рождения.
Интересно также, что не выявлена отчетливая корреляция между способностями к изучению разговорных языков и языка жестов. Некоторые полиглоты ужасаются «трудности» языка жестов, и в то же время люди, подчас считавшие себя неспособными к усвоению иностранных языков, находят язык жестов удивительно «легким». Эта разница может быть отражением различий в зрительных способностях и не имеет ничего общего с интеллектом или с лингвистическими способностями как таковыми. Основные зрительные способности у взрослых имеют ограниченный ресурс дальнейшего развития, в то время как раннее обучение может значительно их усилить у всех нас.
104
Исследования Ньюпорт и Супаллы обсуждаются у Раймера (Раймер, 1988).
105
Супалла; материал готовится к печати.
106
Здесь надо особо отметить, что ни один язык жестов не может считаться «примитивным» в сравнении с любым другим таким языком (так же как ни один из современных разговорных языков не может считаться более примитивным, чем любой другой). Иногда, правда, создается впечатление, что американский язык жестов является пока самым лучшим среди подобных в мире – он лучше организован, очень богат, наиболее выразителен и т. д. Такое отношение привело к возникновению своеобразного американского жестового «империализма» (это зачастую приводит к тому, что роль многих периферийных языков жестов принижается и они даже заменяются американским языком жестов). Но это иерархическая концепция. На самом деле все языки – жестовые и разговорные, не важно, насколько они стары, не важно, насколько мал или велик географический ареал их распространения, – располагают одинаковыми возможностями, и ни один из них не может считаться «примитивным» или «ущербным». Так, например, британский язык жестов полностью эквивалентен американскому; ирландский ничем не уступает им обоим. То же самое касается исландского языка жестов, несмотря на то что в Исландии насчитывается всего семьдесят глухих людей.
107
Сотни языков жестов, спонтанно возникших во всех уголках мира, различаются между собой не меньше, чем сотни разнообразных разговорных языков. Единого универсального языка жестов не существует. Тем не менее всем языкам жестов присущи одни и те же универсальные черты, которые помогают их носителям понимать друг друга легче, чем носителям разных разговорных языков. Так, не владеющий иностранными языками японец заблудится и потеряется в Арканзасе так же, как не владеющий японским американец потеряется в сельских районах Японии. Однако глухой американец сможет общаться со своими глухими собратьями в Японии, России или Перу и едва ли потеряется. Люди, владеющие языком жестов (особенно владеющие им с раннего детства), очень легко обучаются новым языкам жестов или по крайней мере понимают их, чего нельзя сказать о носителях разговорных языков (мы не говорим об особо одаренных личностях). Взаимопонимание устанавливается за считанные минуты, причем говорящие помогают себе жестами и мимикой, каковыми носители языка жестов виртуозно владеют. К концу первого дня общения появляется жаргон, на котором собеседники могут более или менее свободно изъясняться. Через три недели знание чужого языка жестов достигает такого совершенства, что люди могут уже обсуждать довольно сложные и отвлеченные предметы. За подтверждающими примерами далеко ходить не приходится. В августе 1988 года национальный театр глухих приехал на гастроли в Токио, где американцы выступили с японцами в совместном спектакле. «Глухие актеры американского и японского театров скоро свободно болтали друг с другом, – писал Дэвид Э. Сэнджер в «Нью-Йорк таймс» (29 августа 1988), – а поздно вечером, после совместной репетиции, стало ясно, что и японцы, и американцы в общении друг с другом настроены на одну и ту же волну».
108
Эдельман, 1987.
109
Такой же точки зрения придерживается и Френсис Крик в своей недавней статье, посвященной нервным сетям (Крик, 1989). Крик описывает компьютерную модель «NET-talk». Если этой модели предъявить английский текст, с которым она никогда не сталкивалась, то программа вначале запинается, но по прошествии некоторого времени прочитывает текст с девяностопроцентной точностью. Таким образом, заключает Крик, «программа учится правилам английского произношения, которое, как всем известно, не слишком просто, в молчаливой манере, на примерах, а не с помощью программы, обучающей правилам чтения». То, что можно рассматривать как упрощенную «задачу Ноама Хомского», упрощенную по сравнению с порождением грамматики, решается набором искусственных нейронов, соединенных между собой случайным образом. Появление искусственной нейронной сети вызвало в научных кругах большое волнение, но Крик думает, что истинные нейронные механизмы, работающие в головном мозге, нам совершенно неизвестны и могут быть устроены абсолютно по-другому (в большем соответствии с законами биологии).
Добавление 1990 года: Такая нейронная сеть была недавно создана (Б.П. Юхасом) для программы, читающей по губам. Программа определяет гласные звуки на основании формы губ, их положения, зубов и языка. Эта нейронная сеть, соединенная с рутинной системой распознавания обычной речи, может когда-нибудь породить систему, достаточно быстродействующую и гибкую для того, чтобы найти практическое применение («Сайенс», 247:1414, 23 марта 1990).
110
Очевидно, что я некоторое время находился на перепутье между «нативизмом» Ноама Хомского и «эволюционизмом» Джеральда Эдельмана. Должен признаться, что эмоционально меня больше тянуло к идеализму Хомского, Платона или Декарта, то есть к представлению о том, что все наши языковые способности, способности к интеллектуальным оценкам, все способности к восприятию являются врожденными. Я всегда склонялся к идее Творения и божественного Замысла. Однако мои наблюдения, касающиеся усвоения языка и всего нашего индивидуального и видового развития, довели до моего сознания неприятную правду, убедили меня в том, что в природе (или только в живой природе) нет ничего «задуманного» заранее, что все возникает или развертывается под давлением случайностей и отбора. Так, пока я писал, то постепенно перешел с позиций «нативиста» к точке зрения «эволюциониста». Тем не менее изучение языка жестов и его усвоение в раннем детстве убедительно поддерживает обе точки зрения, и, возможно, их можно как-то согласовать друг с другом.
111
«Эксперимент» египетского фараона Псамметиха, поставленный в VII веке до н. э., был описан Геродотом. Этот опыт был повторен и другими монархами – французским королем Карлом IV, шотландским Яковом IV и небезызвестным Акбар-Ханом. По иронии судьбы в случае Акбар-Хана детей отдали не пастухам, а глухим кормилицам, которые не умели говорить (но, о чем было неведомо Акбар-Хану, владели языком жестов). Когда в возрасте двенадцати лет детей привели ко двору Акбара, никто из них (и это правда) не умел говорить, но все умели изъясняться жестами. Понятно, что это был не врожденный и не «адамов» язык, что если бы с детьми не говорили, то они не знали бы вообще никакого языка. Но если с ними говорили – пусть даже на языке жестов, – то эта речь и стала их «естественным» языком.
112
Шейн, 1984, с. 131. Шэнни Моу в краткой автобиографии, отрывки из которой приводит Лео Джекобс, описывает это типичное для глухого ребенка отчуждение, от которого он страдает в собственном доме:
«За обедом ты не можешь участвовать в общем разговоре. Это означает ментальную изоляцию. Все остальные о чем-то говорят и смеются, а ты чувствуешь себя одиноким арабом в пустыне, простирающейся до самого горизонта. Ты жаждешь общения. Ты задыхаешься, но не можешь никому рассказать об этом ужасном чувстве. Ты просто не знаешь, как это сделать. Возникает впечатление, что тебя никто не понимает и никому до тебя нет дела. Ты лишен даже иллюзии участия…
От тебя ждут, что пятнадцать лет ты безропотно проведешь в смирительной рубашке обучения устному языку и чтению с губ. Но родители не пожертвуют и часом в день, чтобы выучить язык жестов или хотя бы его часть. Один час из двадцати четырех смог бы изменить всю твою жизнь» (Джекобс, 1974, с. 173-174).
Только те глухие дети не страдают от такого жестокого отчуждения в собственной семье, которые родились у глухих (владеющих языком жестов) родителей. Такие дети, выражаясь языком одного моего глухого друга (его родители слышащие), – это «совершенно иной биологический вид». Глухие дети глухих родителей могут с самого начала наслаждаться полноценным общением и отношениями со своими родителями, такие дети обучаются беглому владению языком, они изъясняются на нем с такой же легкостью, с какой слышащие дети общаются на разговорном языке. В том же критическом возрасте (около трех лет) ребенок овладевает языком жестов с таким совершенством, с каким им никогда не сможет овладеть человек, приступивший к его изучению в более старшем возрасте. Такие дети имеют больше шансов познакомиться с другими глухими детьми и взрослыми, вступив, таким образом, в тесное сообщество. Такие дети вырастают уверенными в себе и в своих силах, вырастают полноценными личностями – их жизнь с самого начала организована вокруг «другого центра» (Пэдден и Хамфрис, 1988). Многие представители «элиты» мира глухих были рождены от глухих родителей, иногда даже из семей глухих в нескольких поколениях. Таковы, например, все четыре студенческих лидера университета Галлоде.
Иное, но не менее уникальное положение занимают слышащие дети глухих родителей. Для этих детей родными становятся как разговорный язык, так и язык жестов. Эти дети легко ориентируются как в мире слышащих, так и в мире глухих. Часто такие дети становятся переводчиками, и эта роль подходит им идеально, так как не только могут переводить с одного языка на другой, но могут растолковать особенности одного мира представителям мира другого.
113
В особенно деликатном положении оказываются слышащие родители глухого ребенка – им предстоит решить множество проблем с идентичностью и культурной принадлежностью ребенка. Одна такая мать, ребенок которой оглох в возрасте пяти месяцев из-за менингита, писала мне: «Не значит ли это, что в течение одной ночи он стал чужим для нас, что отныне он уже не принадлежит ни нам, ни нашему миру, уйдя от нас в мир глухих? Значит ли это, что отныне он будет частью сообщества глухих и мы никогда не сможем позвать его оттуда?» Действительно, очень многие слышащие родители глухих детей испытывают страх перед тем, что ребенок станет для них чужим, что он уйдет от них в сообщество глухих. Этот страх часто служит причиной того, что родители изо всех сил стараются привязать ребенка к себе, лишают его доступа к языку жестов и не пускают в общество других глухих. «Пока забота и уход за ним находятся в наших руках, – писала эта мать, – я чувствую, я считаю, что он должен иметь доступ к нашему языку, как он имеет доступ к нашей пище, нашим слабостям, нашей семейной истории».
Здесь смешаны две проблемы. Одна проблема касается того, способны ли родители «отпустить» своего ребенка: это приходится делать всем родителям, но глухого ребенка в самостоятельное плавание приходится отпускать раньше. Другая проблема касается сообщества глухих. Глухого ребенка не следует «защищать» от сообщества глухих. Оно не лелеет планов похищения ребенка у родителей. Напротив, именно глухое сообщество может предоставить в распоряжение ребенка ресурсы, недоступные его слышащим родителям. Сообщество глухих может многим помочь ребенку (в сотрудничестве с его родителями), оно может обучить ребенка языку и способствовать его разностороннему развитию. Для того чтобы это понять, от родителей требуется большая душевная щедрость: снять с ребенка оковы своей опеки, перестать навязывать ему свои собственные желания и потребности, дать свободу и независимость, позволить стать свободным, хотя и не таким, как они, человеком. Глухой ребенок нуждается в двойной идентичности. Если разрешить ее ребенку, то в ответ родители получат уважение и любовь. Запрет же приведет к отчуждению, о котором пишут Шейн и Моу.
114
Мы, конечно, можем только гадать о путях происхождения языка – языка жестов или языка устного – или выдвигать гипотезы, которые не поддаются ни подтверждению, ни опровержению. В XIX веке спекуляции на эту тему приняли такой размах, что Парижское лингвистическое общество в 1866 году перестало рассматривать статьи и доклады по этому предмету. Но теперь палеолингвистика стала полноправной наукой и мы располагаем данными, которых не было в XIX веке. Есть данные о доисторическом происхождении языка жестов. Так, во всяком случае, называется статья Стокоу, напечатанная в 1974 году, «Двигательные знаки как первичная форма языка» (см. также: Хьюз, 1974).
Получены интригующие прямые наблюдения жестового общения между (слышащей) матерью и ее ребенком до развития у последнего речи (см.: Троник, Брейзелтон и Элс, 1978). И если онтогенез действительно повторяет филогенез, то это наблюдение подтверждает предположение о том, что первый язык человечества был жестовым или двигательным.
115
Леви-Брюль, рассматривая ментальность «примитивных» народов (под термином «примитивные» он подразумевает более первобытный или более ранний характер их бытия, но ни в коем случае не подчеркивает их низкое развитие или ребяческое восприятие действительности), говорит о «собирательных представлениях», являющихся центральными в их языке, ориентации и восприятии окружающего. Эти представления кардинальным образом отличаются от абстрактных концепций – они «представляют собой более сложные состояния, в которых эмоциональные и двигательные элементы являются интегральными частями представления». Леви-Брюль говорит также об «образах-концепциях», которые не расчленяются и не поддаются расчленению. Такие образы-концепции имеют выраженную зрительно-пространственную природу, они описывают «форму и контур, положение, движение, способ действия, место предмета в пространстве – во всяком случае, все это можно чувственно воспринять и изобразить». Леви-Брюль исследует широко распространенное развитие языка жестов среди слышащих, языка, параллельного языку устному и идентичного последнему по структуре: «Эти два языка, знаки которых чрезвычайно отличны друг от друга, – членораздельные звуки и жесты, но одновременно едины по своей структуре и способу интерпретации предметов, действий, условий. Оба языка имеют в своем распоряжении большое число отчетливо оформленных зрительно-двигательных ассоциаций, которые всплывают в памяти сразу, как только их описывают». Здесь Леви-Брюль говорит о «мануальных понятиях»: «движениях рук, в которых нераздельно соединены язык и мышление».
Справедливо и то, что, когда дело доходит (как называет это Леви-Брюль) «до перехода к умственной деятельности высшего типа», этот абсолютно конкретный язык с его картинной живостью, точными «образами-концепциями» уступает место абсолютно лишенному всякой картинности (можно сказать, пресному) языку абстрактных обобщающих концепций. (Точно так же Сикар поведал нам о необходимости для Массье оставить свои метафоры и обратиться к более абстрактным, обобщающим определениям-прилагательным.)
В молодости и Выготский, и Лурия испытали сильное влияние Леви-Брюля и представили сходные (хотя и более точно исследованные) примеры такого перехода «примитивной» деревенской культуры на более высокую ступень после «социализации» и «советизации» в 20-е годы:
«Этот [конкретный] способ мышления претерпевает коренную трансформацию после того, как изменились условия жизни людей… Слова становятся средствами выражения абстракции и обобщения. На этой стадии народ отбрасывает графическое мышление и начинает кодифицировать идеи с помощью концептуальных схем… Люди преодолевают – со временем – свою склонность мыслить зрительными образами» (Лурия, 1976).
При чтении работ Леви-Брюля и раннего Лурии не можешь отделаться от какого-то чувства неловкости, так как в этих работах «конкретное» изображается как «примитивное», как нечто, что должно быть заменено восхождением к абстракции (такой подход действительно был широко распространен в неврологии и психологии XIX века). В настоящее время считают, что нельзя делить мышление на конкретное и абстрактное, полагая эти свойства взаимоисключающими, и считать, что конкретное должно быть оставлено при восхождении к абстрактному. Необходимо аккуратнее делить конкретное и абстрактное, определяя их в понятиях соподчиненности или подчиненности.
Такое адекватное (в отличие от традиционного в то время) представление об абстрактности характерно для суждений Выготского о языке и сознании, для его видения прогресса как способности к наложению главенствующих структур на структуры подчиненные, когда первые за счет своей более широкой перспективы включают в себя вторые.
«Новые, высшие концепции [в свою очередь] преобразуют значение низших, ребенок не должен перестраивать все свои прежние понятия, когда новая структура интегрируется в его мышление, эта новая структура постепенно распространяется на старые понятия по мере того, как они включаются в интеллектуальные операции высшего типа».
Подобный образ использует и Эйнштейн, правда, в отношении к созданию теорий: «Создание новой теории не предусматривает уничтожения старой постройки и возведения на ее месте небоскреба. Скорее это восхождение в гору, по мере которого открывается все более широкий вид».
При таком понимании абстрагирование, обобщение или теоретизирование не приводят к утрате конкретного, скорее наоборот. По мере того как конкретика воспринимается со все более высокой точки зрения, она становится богаче, неожиданно открываются ее неведомые прежде связи; она концентрируется, приобретает смысл, какого не имела прежде. Недаром у зрелого Лурии мы находим положение о том, что наука «восходит к конкретному знанию».
Красота языка, в частности, красота языка жестов, в этом отношении похожа на красоту теории. Изучение конкретного предмета приводит к обобщениям, но через обобщения мы начинаем лучше понимать конкретное, оно становится ярче и четче. Это новое обретение и обновление конкретного знания силой абстракции запечатлено на примере такого образного и конкретного языка, каким является язык жестов.
116
Человек может быть очень близок к сообществу глухих и даже стать его членом, не будучи сам глухим. Самая главная предпосылка, помимо симпатии к глухим и знания их жизни, – это беглое владение языком жестов. Вероятно, единственные слышащие люди, которые до сих пор считались полноправными членами сообщества глухих, – это слышащие дети глухих родителей, для которых язык жестов является родным с детства. Так, например, обстоит дело с доктором Генри Клоппингом, любимым студентами директором Калифорнийской школы для глухих во Фримонте. Один из бывших студентов Галлоде сказал мне о нем: «Он Глухой, несмотря на то что хорошо слышит».
117
При общении глухих носителей языка жестов были выработаны правила, продиктованные отличием зрения от слуха. Зрение более специфично, чем слух, – можно переместить взгляд, сосредоточить его на каком-то одном объекте, можно (в буквальном и переносном смысле) закрыть глаза, в то время как невозможно переместить слух, сосредоточить его на одном из множества звучащих с одинаковой громкостью источников или «закрыть» уши. Общение на языке жестов можно уподобить сфокусированному лазерному лучу, попеременно направляемому от одного говорящего к другому. Передача зрительной информации при общении на языке жестов передается целенаправленно собеседнику, а не во все стороны, как при акустическом общении. Таким образом, если за столом сидят двенадцать человек, то они могут вести одновременно шесть полноценных разговоров, совершенно не мешая друг другу. В помещении, заполненном глухими, нет «шума» (зрительного шума) благодаря узкой направленности зримых голосов и зрительного внимания. Точно так же (это становится особенно наглядно в огромном студенческом баре университета Галлоде на банкетах и собраниях, где мне довелось присутствовать) на языке жестов можно общаться с человеком, находящимся в противоположном конце зала, забитого людьми. Перекрикиваться голосом на таком расстоянии было бы затруднительно и неприлично.
В этикете глухих есть некоторые пункты, которые могут показаться странными слышащему человеку: надо внимательно следить за направлением взглядов и зрительными контактами, за тем, чтобы не пройти случайно между двумя общающимися между собой людьми и не прервать их беседу. Этикет глухих допускает прикосновение к плечу и разрешает показывать пальцами на предметы, что недопустимо в общении слышащих. Кроме того, оглядывая зал, где собралось, скажем, три сотни человек, надо проследить за тем, чтобы ни у кого не сложилось впечатление: вы «подсматриваете», что говорят другие.
В Рочестерском технологическом институте, построенном в 1968 году специально для глухих студентов, есть соответствующие архитектурные особенности. Помещения спланированы для максимально свободного зрительного общения. Все устроено так, чтобы общаться можно было на большом расстоянии и даже с человеком, находящимся на другом этаже. Немыслимо общаться акустически с собеседником, находящимся на другом этаже, но такое общение на языке жестов вполне допустимо и естественно.
118
Мир глухих, как и всякая субкультура, формируется благодаря отчасти отчуждению (в данном случае от мира слышащих), а отчасти образованию мира и сообщества, организованного вокруг иного центра притяжения. Глухие – в той мере, в какой они исключены из жизни большого мира, – чувствуют себя изолированными, отчужденными, отброшенными и дискриминированными. Но когда глухим удается создать свой мир, они чувствуют себя в нем как дома, он для них спасительная гавань и буфер. В этом отношении мир глухих не изолирован, а самодостаточен – он не хочет ни ассимилировать, ни быть ассимилированным. Напротив, он холит и лелеет свой язык, свои образы и желает всячески их защитить.
Один из аспектов этого явления – двуязычие глухих. Так, если группа глухих – будь то в университете Галлоде или в другом месте – общается между собой на языке жестов, то она сразу переходит на транслитерированный жестовый язык, когда к ним присоединяется слышащий, но немедленно снова переходит на американский язык жестов, как только слышащий уходит. Глухие считают язык жестов своей интимной, глубоко личной собственностью, которую надо всеми силами защищать от чужих глаз. Барбара Канапель даже считает, что если все мы выучим язык жестов, то это разрушит мир глухих:
«Американский язык жестов выполняет объединяющую функцию, так как сплачивает глухих людей. Но язык жестов одновременно отделяет глухих людей от мира слышащих. Эти две функции заставляют смотреть на одну и ту же реальность с двух точек зрения – изнутри группы и извне. Этот сепаратизм защищает глухих. Например, мы можем говорить о чем угодно в присутствии массы слышащих, которые, как мы считаем, нас не понимают.
Очень важно понимать, что язык жестов – это единственное достояние, которое целиком и полностью принадлежит нам. Этот язык возник и развился в сообществе глухих. Наверное, мы просто боимся разделить наш язык со слышащими. Наверное, идентичность глухого народа исчезнет, как только слышащий народ выучит язык жестов» (Канапель, 1980, с. 112).
119
Даже те из слышащих преподавателей, кто владеет языком жестов, старались по большей части пользоваться жестовой транслитерацией английского языка, а не американским языком жестов. За исключением математического факультета, где большинство преподавателей – глухие, большинство составляют слышащие преподаватели и профессора. Во времена Эдварда Галлоде все было по-другому: профессорско-преподавательский состав в большинстве своем состоял из глухих. К сожалению, тенденция, сложившаяся в университете Галлоде, типична для современной ситуации в образовании глухих. Очень редко глухие учителя учат глухих. Преподавание ведется не на языке жестов, так как большинство слышащих преподавателей либо его не знают, либо не желают им пользоваться.
120
Помимо общего невыгодного положения глухих в обществе, обусловленного не их особенностью, а тем, что мы отторгаем глухих, у них существует и множество специфических проблем, связанных с возможностью пользоваться языком жестов. Но эти проблемы существуют лишь в той мере, в какой мы, слышащие, делаем их таковыми. Так, например, глухому очень сложно получить адекватную медицинскую или юридическую помощь; в Соединенных Штатах, правда, есть адвокаты, владеющие языком жестов, но практически нет владеющих языком жестов врачей и очень малое число парамедиков и медсестер. В чрезвычайных ситуациях глухие зачастую оказываются абсолютно беспомощными. Если глухой серьезно заболевает, то очень важно сделать так, чтобы хоть одна рука имела возможность свободно двигаться, так как иначе он не сможет объясниться. Заковать глухого в наручники – это все равно что заткнуть ему рот.
121
Глухих часто считают молчунами, живущими в мире безмолвия, но это не всегда так. При желании глухие могут очень громко кричать, чтобы привлечь внимание окружающих. Если они говорят, то могут подчас говорить очень громко, плохо модулируя голос, так как не в состоянии следить за ним и корригировать интонации. Наконец, глухие могут производить разнообразную вокализацию – случайные и непреднамеренные движения элементов голосового аппарата. Чаще всего такая вокализация сопровождает эмоции, физические нагрузки и волнение.
122
Это возмущение патернализмом (или, если угодно, «материализмом») очень отчетливо отражено в специальном выпуске студенческой газеты «Желтое и синее» от 9 марта, в котором напечатано стихотворение, озаглавленное «Дорогая мама». Начиналось оно так:
Дальше следовали еще 13 строф в таком же духе. (Спилмен, выступая по телевидению, защищала Цинзер, говоря: «Поверьте нам, она вас не разочарует».) Стихотворение было размножено в 1000 копий и было развешено по всему кампусу.
123
Эти рассуждения следует вспомнить в связи с современными противоречивыми рассуждениями о «специальных» школах и о мейнстриминге. Мейнстриминг – совместное обучение глухих и слышащих детей – имеет то преимущество, что глухие с детства приобщаются к жизни большого мира (во всяком случае, таковы намерения тех, кто ратует за такую форму обучения), но мейнстриминг может привести к усугублению изоляции, послужить поводом для отчуждения глухих от их языка и культуры. В настоящее время в США, Канаде, Англии и других странах усиливается тенденция к закрытию интернатов и «специальных» школ для глухих. Иногда это делается под прикрытием рассуждений о гражданских правах физически неполноценных, об их праве на «равный доступ» к наименее «подавляющему» окружению в школе. Но дело в том, что глухие, по крайней мере полностью глухие с рождения люди, – это совершенно особая категория детей. Их нельзя сравнивать с другими группами учеников. Глухие не считают себя ущербными и неполноценными. Они рассматривают себя как языковое и культурное меньшинство, обладающее собственными нуждами и потребностями. Да, они требуют прав, прав быть вместе, вместе ходить в школу, учить доступный им язык и жить в сообществе себе подобных.
Законодательство, касающееся детей-инвалидов, акцентирующее равную доступность образования, не учитывает этих особых потребностей и требований; хуже того, оно угрожает разрушением уникальной системы обучения, сыгравшей фундаментальную роль в обеспечении непрерывной лингвистической и культурной преемственности в сообществе глухих. В 1989 году в штате Коннектикут едва не закрыли Американскую школу для глухих, основанный в 1817 году Клерком и Галлоде Хартфордский приют, бывший в течение 173 лет оплотом образования глухих в Соединенных Штатах. К счастью, это поспешное и неотвратимое решение было в последний момент отложено, но закрытие по-прежнему угрожает многим школам-интернатам для глухих.
Естественно, контингент глухих учащихся не является однородным. В школах для глухих обучаются много поздно оглохших детей. Они не отождествляют себя с сообществом глухих и часто предпочитают учиться в школах вместе со слышащими детьми. Но всегда будут люди, страдающие врожденной или ранней глухотой, для которых единственная возможность овладеть языком и культурным наследием – это обучение в специализированном интернате. У них должен быть выбор: пойти в такую школу или быть насильно определенными в школу обычную. Правда, эти интернаты, основанные в XVIII и XIX веках, пропитаны анахронической, подчас просто диккенсовской атмосферой. Многие считают, что их надо, конечно, сохранить, но модернизировать и избавить от викторианского налета. Так, например, старая римская школа для глухих на улице Номентана была модернизирована и сейчас переживает второе рождение. Это не просто школа, это клуб, художественный и театральный центр, куда с удовольствием ходят даже слышащие ученики и их родители (Пинна и др., 1990).
124
В мире слышащих нет ничего равного по роли, какую в мире глухих играют школы-интернаты, клубы и т. д., и по их значению. Прежде всего в этих учреждениях глухие дети обретают свой дом. Они, как это ни прискорбно, часто ощущают себя чужаками в собственных семьях, в школах для слышащих, в мире слышащих вообще. Встречаясь с другими глухими, они могут найти новую семью, испытать чувство возвращения домой. Шейн (1989) приводит слова одного глухого юноши:
«Как-то раз сестра рассказала мне о Мэрилендской школе для глухих. Моей первой реакцией были гнев и отторжение – причем эти чувства я испытывал к самому себе. Я очень неохотно поехал с сестрой в эту школу и вдруг понял, что я наконец вернулся домой. Это было как первая любовь. Впервые я не чувствовал себя чужим в чужой стране, я ощутил себя полноправным членом сообщества».
Кайл и Уолл приводят описание посещения в 1814 году Клерком школы для глухих в Лондоне:
«Как только Клерк увидел этих детей за обедом, лицо его невероятно оживилось; он пришел в волнение, как сентиментальный путешественник, который вдруг встретил в чужой стране соотечественников. Клерк приблизился к детям. Он заговорил с ними знаками, и они знаками же ответили ему. Это неожиданно начавшееся общение было им очень приятно, а у нас вызвало трогательное удовлетворение при виде выразительности и искренности этого диалога».
125
Вскоре слепых учеников стали обучать отдельно от «глухонемых» (как в то время называли глухих от рождения, которые практически не умели говорить). В настоящее время в университете Галлоде наряду с глухими проходят обучение около двадцати студентов, страдающих одновременно глухотой и слепотой (в большинстве своем с синдромом Ашера). У этих студентов должны быть необычайно сильно развиты способности к тактильному восприятию, как, например, у Хелен Келлер.
126
На полюсах этой борьбы стояли два выдающихся человека – Эдвард Галлоде и Александр Грэхем Белл. У обоих были глухие матери (правда, отношение их матерей к глухоте было диаметрально противоположным), и тот и другой были беззаветно преданы глухим, но каждый по-своему. Их отношения были настолько непримиримыми, насколько непримиримыми могут быть взгляды двух людей (см.: Уайнфилд, 1987).
127
Есть одна сфера, где язык жестов использовали всегда, невзирая на все перемены в правилах и предписаниях ученых от образования: религиозные службы для глухих. Священники никогда не забывали о душах своих глухих прихожан, учили язык жестов (часто у прихожан) и проводили на нем службы, не обращая внимания на пререкания по поводу устной речи и запретов языка жестов в светском образовании. Де л’Эпе, настаивая на всеобщем обучении глухих языку жестов, ставил перед собой в первую очередь задачу религиозного просвещения, и эта установка на «естественный язык» осталась непоколебимой, несмотря на все светские превратности и капризы, происходившие на протяжении 200 лет. Это религиозное употребление языка жестов обсуждал Джером Шейн:
«То, что язык жестов имеет духовный аспект, не должно никого удивлять, особенно если вспомнить его использование в монастырях молчальников и об обучении глухих детей священниками и монахами. Надо сразу понять, что язык жестов идеально подходит для выражения религиозного поклонения. Глубина выразительности, каковой можно достичь на языке жестов, не поддается словесному описанию. Академическую премию 1948 года по литературе получила Джейн Уаймен за превосходный (и очень точный) перевод молитвы “Отче наш” на американский язык жестов.
Вероятно, именно в церковной службе становится особенно заметной красота языка жестов. В некоторых церквах есть даже хоры, «поющие» на языке жестов. Вид одетых в строгие одежды хористов, в унисон говорящих на языке жестов, вызывает душевный трепет» (Шейн, 1984, с. 144-145).
В октябре 1989 года я посетил синагогу глухих в Арлета, штат Калифорния, в день искупления (Йом-Кипур). В синагоге собралось свыше 200 человек, многие из которых приехали сюда за сотни миль. Было несколько говорящих, но вся служба проводилась на языке жестов. Раввин, певчие и все прихожане изъяснялись языком жестов. При чтении закона – иудейская Тора написана на свитке, и во время службы отрывки из нее по очереди читают прихожане – чтение «вслух» приняло форму жестов, быстрого перевода библейского иврита на язык жестов. К службе были добавлены некоторые дополнительные молитвы. В одном месте, где речь идет об искуплении коллективных грехов: «Мы делали то, мы делали этим; мы грешили, делая то и делая это…» был добавлен еще один «грех»: «мы грешили, проявляя нетерпение к слышащим, когда они не понимали нас». Добавилась и одна благодарственная молитва: «Ты дал нам руки, чтобы мы могли сотворить язык».
Зрелище этих жестов было поразительным; мне никогда прежде не приходилось видеть таких размашистых жестов и жестов, производимых в унисон. К тому же эти жесты были обращены не к стоящим рядом собеседникам, а ввысь, к небу. (Царила атмосфера всеобщего воодушевления, хотя стоявшая впереди меня пожилая дама безостановочно болтала на языке жестов со своей дочерью.) Эти сплетни на языке жестов напомнили мне о болтовне во время службы в синагогах для говорящих.
Прихожане собрались в синагоге задолго до начала службы и долго не расходились после нее. Для них это было очень важное социально-культурное, а не только религиозное событие. Такие службы чрезвычайно редки, и я сразу подумал о том, как воспитываются глухие дети где-нибудь в Вайоминге или Монтане, где за тысячи миль нет ни одной церкви или синагоги для глухих.
128
Это случилось не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире; даже в школе де л’Эпе, которую я посетил в 1990 году, обучение стало сугубо «устным» (наверное, де л’Эпе перевернулся в гробу).
129
Мне очень жаль, что у меня не было возможности обсудить этот вопрос с Кэролом Пэдденом и Томом Хамфрисом, которые, будучи одновременно учеными и глухими, имеют уникальную возможность оценивать события и изнутри, и извне в главе, касающейся «Изменения сознания», книги «Глухие в Америке», самой лучшей книги об изменении отношения к глухим и их отношения к самим себе, происшедших за последние тридцать лет.
130
Стокоу, 1980, с. 266-267.
131
Однако Клима и Беллуджи рассказывают о том, как в 1965 году, когда Хомский говорил о языке как о «специфическом соотнесении звука и смысла», его спросили, как он относится к языку глухих (в понятиях данной им характеристики языка). Хомский в ответ проявил широту взгляда, сказав, что не станет настаивать на решающей роли звука и может поменять определение, сказав, что «язык – это специфическое соотнесение сигнала и смысла».
132
Американский язык жестов идеально подходит для сценического использования, для сценических преображений – намного больше, чем жестовая транслитерация английского языка, – отчасти, потому что это оригинальный язык, а значит, и средство оригинального творчества, а отчасти, потому что картинная, пространственная структура языка жестов позволяет неподражаемо воспроизводить комические, драматические и эстетические эффекты (последний раздел книги Климы и Беллуджи посвящен как раз «Возвышенному использованию языка жестов»). В обыденном общении глухие редко пользуются чистым языком жестов, собеседники часто включают в разговор выражения, знаки и неологизмы на жестовой транслитерации английского языка, если того требует ситуация. Тем не менее с точки зрения лингвистики и неврологии язык жестов и жестовая транслитерация английского языка – это совершенно разные вещи. В практическом употреблении можно считать средство общения глухих континуумом, на одном конце которого расположена транслитерация английского языка, в середине – кодовые жесты, в которых закодированы английские выражения, а на другом конце – чистый, или «глубинный», язык жестов.
133
Учителей и преподавателей учебных заведений для глухих в настоящее время побуждают к тому, чтобы они одновременно говорили вслух и изъяснялись языком жестов; этот метод (Sim Com), как надеются его создатели, поможет сохранить преимущества обоих средств общения, хотя на практике из этого ничего не выходит. При таком подходе происходит искусственное замедление устной речи, так как одновременно приходится еще и жестикулировать. Мало этого, страдает и выразительность языка жестов, ибо говорящий на нем вынужден пропускать некоторые, иногда очень важные в смысловом значении знаки. Система жестикуляции искажается порой настолько, что речь на языке жестов становится нечленораздельной и малопонятной. К этому надо добавить, что говорить по-английски и на языке жестов одновременно очень трудно, так как это совершенно разные языки; это приблизительно то же самое, что говорить по-английски и одновременно писать по-китайски, с точки зрения неврологии это практически невозможно.
134
Однако в Соединенных Штатах на официальном уровне до сих пор не было предпринято ни одной попытки сделать глухих детей билингвами, давая им образование на двух языках. Было лишь несколько ограниченных пробных экспериментов (об одном из них в 1988 году сообщил Майкл Стронг). Напротив, как отмечает Роберт Джонсон, такая система двуязычного образования давно действует в Венесуэле, где проводится соответствующая образовательная политика и где к преподавательской деятельности привлекаются глухие взрослые (Джонсон, личное сообщение). При венесуэльских школах действуют дневные центры, куда водят детей с тех пор, как у них диагностирована глухота. В этих центрах с детьми общаются только на языке жестов, после чего они переходят в детские сады и школы, где им начинают прививать двуязычие. Такая же система действует и в Уругвае. В обеих этих южноамериканских странах уже достигнуты значительные и многообещающие успехи. К сожалению, эти успехи пока почти неизвестны ни европейским, ни американским деятелям просвещения и образования (см., однако, статьи Джонсона, Лидделла и Эртинга, 1989). Единственными странами, помимо Венесуэлы и Уругвая, где образование дается на двух языках, являются Швеция и Дания. В этих странах язык жестов официально признан родным языком глухих. Все эти примеры отчетливо показывают, что можно научиться бегло читать, даже не умея говорить, и что «тотальное общение» не является обязательным промежуточным звеном между обучением устной речи и двуязычным образованием.
135
Социолингвист Джеймс Вудворд давно и пристально занимается этой темой. Растущее осмысление культурного разнообразия в противовес фиксированной «норме» с отклонениями в ту и другую сторону связано с гуманистическими течениями предыдущего столетия, а возможно, возникло и еще раньше. В частности, такова была точка зрения Лорана Клерка (и это еще одна фундаментальная причина, по которой студенты так часто призывали его имя, чувствуя, что его дух как бы «ведет» их революцию).
До самой своей смерти Клерк учил расширению взглядов, свойственных обществу XIX века, на «человеческую природу», ратовал за понимание относительности «нормы» и равенство возможностей человека, за отказ от привычной дихотомии «нормы» и «патологии». Мы говорим о наших предшественниках из XIX века как о жестких, репрессивных и придирчивых моралистах, но голос Клерка и тех, кто внимал ему, создает прямо противоположное впечатление: то было время, весьма расположенное к «естественному», «природному» – к цельному, но разнообразному спектру природных наклонностей – и несклонное (по меньшей мере не так склонное, как наше) к морализаторским и клиническим суждениям относительно того, что такое норма и патология.
О большом диапазоне «природных» особенностей снова и снова пишет Клерк в краткой «Автобиографии» (она обильно цитируется Лейном, 1984а): «Каждое существо, каждое творение Бога достойно восхищения. То, что мы находим ошибочным, часто оборачивается к нашей пользе, хотя мы и сами подчас этого не понимаем». Или: «Мы можем лишь благодарить Бога за разнообразие его творений и надеяться, что в будущем мире найдутся объяснения причин этих творений».
Характерное для Клерка понимание «Бога», «творения», «природы» – скромное, разумное, мягкое и смиренное – коренится, вероятно, в его ощущении себя и глухих вообще другими, но тем не менее полноценными человеческими существами. Это отношение диаметрально противоположно прометеевой ярости Александра Грэхема Белла, который видит в глухоте обман чаяний, ущербность и трагедию, стремится «нормализовать» ее, исправить ошибки Бога и вообще улучшить природу. Клерк выступает за природное богатство, терпимость и разнообразие, Белл – за технологию, изменение наследственности, слуховые аппараты, телефоны. Это две абсолютно противоположные точки зрения, но они обе имеют полное право на существование.
136
Объемистая иллюстрированная книга «Наследие глухих: наглядная история глухих в Америке» была опубликована Джеком Р. Ганноном в 1981 году. Книги Харлана Лейна, написанные после 1976 года, не только представили историю глухих в волнующем, драматичном ключе, но и сами стали «политическим» событием, внушившим глухим людям сильное (хотя отчасти и мифическое) чувство собственного прошлого и стремление возродить лучшее из этого прошлого в будущем. Таким образом, эти книги не только фиксировали историю, но и помогали ее творить (так же как сам Лейн был не только хронистом, но и активным участником бунта 1988 года).
137
Так, во всяком случае, ситуация представлялась стороннему наблюдателю – глухие бунтуют против того, что их считают «инвалидами». Сами же члены сообщества глухих придерживались иного мнения, утверждая, что никогда не считали себя инвалидами. Пэдден и Хамфрис особо подчеркивают этот пункт:
«“Инвалид” – это ярлык, который был приклеен к глухим помимо их воли, приклеен слышащими. Этот термин отражает политические представления и цели, совершенно незнакомые нашему сообществу. Когда глухие люди обсуждают свою глухоту, они используют термины, заложенные в их языке, берущие начало в их прошлом, присущие их сообществу. Главной заботой глухих было сохранение их языка, возможность образования для детей, создание социальной и политической организации. Современные выражения “доступности” и “гражданских прав” нам незнакомы, и наши лидеры употребляли их только потому, что они понятны обществу лучше, нежели выражения и термины, принятые в среде глухих» (Пэдден и Хамфрис, 1988, с. 44).
138
Не следует думать, что самые убежденные сторонники и поборники языка жестов отказываются от использования современных средств коммуникации даже тогда, когда это необходимо. За прошедшие двадцать лет жизнь глухих неузнаваемо изменилась благодаря внедрению различных технических устройств, таких, как телевидение с субтитрами, телефонные телетайпы (TTY) (в настоящее время эти усовершенствованные приспособления называются телекоммуникационными устройствами для глухих, telecommunication devices for the deaf, TDD). Эти устройства привели бы в восторг Александра Грэхема Белла, который изобрел телефон отчасти как устройство, помогающее глухим общаться со слышащими. Восстание в университете Галлоде вряд ли смогло бы начаться, если бы студенты с таким блеском не использовали все эти современные устройства.
Тем не менее у таких средств связи есть и негативная обратная сторона. Пятнадцать лет назад, до того, как эти аппараты стали доступными, глухие часто и охотно встречались лично: регулярно ходили в гости друг к другу, посещали клубы глухих. Для них это был единственный шанс поговорить с другими глухими людьми; эти постоянные встречи в клубах спаивали сообщество глухих в единое «физическое» целое. Теперь, с появлением телетайпа (в Японии для этой цели пользуются факсом), реальные контакты стали происходить реже. В клубах глухих становится все меньше и меньше посетителей. Создается тревожная тенденция. Возможно, что телетайпы, кабельное телевидение с субтитрами и транслитерированные телепередачи создают у глухих иллюзию проживания в одной электронной деревне, но это вредная иллюзия, ибо электронная деревня не заменяет деревню настоящую. Вырождение общения в гостях и в клубах может стать необратимым.
139
Несмотря на то что большинство студентов с восторгом встретили избрание Джордана, некоторые считали это недопустимым компромиссом (так как Джордан – поздно оглохший) и поддерживали кандидатуру Харви Корсона, директора луизианской школы для глухих, третьего финалиста, который, во-первых, страдал врожденной глухотой, а во-вторых, был прирожденным носителем языка жестов.
140
Несмотря на то что уровень политического и общественного сознания европейских глухих отстает от уровня, достигнутого в Соединенных Штатах, у них есть и свои очевидные преимущества. Европейские носители языка жестов владеют им более искусно, чем их собратья в США, кроме того, европейцы лучше умеют устанавливать контакты между глухими разных стран: не только между отдельными индивидами, но и на больших встречах, где сходятся люди, изъясняющиеся на дюжине языков жестов. Существует искусственная, специально изобретенная система жестов и знаков, называемая «Жестуно», по аналогии с идо или эсперанто. Но реальным, вытесняющим все остальные, становится международный язык жестов, составленный из словарей и грамматических средств языков, на которых говорят между собой собравшиеся глухие из разных стран. Такой подход обогащает каждый из индивидуальных языков и позволяет их носителям свободно общаться друг с другом. В течение последних тридцати лет из этого смешанного наречия постепенно кристаллизуется настоящий язык, хотя пока это все же язык для сиюминутных контактов, своеобразный лингва-франка. Надо подчеркнуть, что такое межъязыковое общение глухих, возникающее с необычайной легкостью и быстротой – намного более свободное, чем общение между носителями разных разговорных языков, – представляет собой загадку, которая недавно стала объектом пристального изучения.
Глухие европейцы не только много путешествуют, так как преодолевают языковой барьер намного легче, чем слышащие, они часто женятся и выходят замуж за глухих из других стран, усиливая, таким образом, межъязыковую миграцию. Валлийцу было бы немыслимо трудно взять и поселиться в Финляндии, или, наоборот, финну – в Уэльсе; но такие миграции вполне обычны среди глухих (по крайней мере в Европе). Дело в том, что глухие представляют собой наднациональную общность, такую же, как, скажем, евреи или иные этнические и культурные группы. Мы, видимо, становимся свидетелями формирования панъевропейской общности глухих, и общность эта вполне способна перешагнуть границы Старого света, ибо сообщество глухих охватывает весь мир.
Особенно заметно это было на замечательном международном фестивале и конференции глухих «Путь глухих», состоявшихся в июле 1989 года в Вашингтоне. На фестивале побывало больше пяти тысяч глухих, приехавших из более чем восьмидесяти стран мира. Войдя в вестибюль отеля, где проводилась конференция, можно было увидеть, как люди говорят между собой на дюжине разных языков жестов; однако через неделю общение между глухими разных национальностей стало практически свободным – Вавилонского столпотворения, каковое было бы неминуемо при встрече людей, говорящих на дюжине разных звучащих языков, здесь не произошло. На фестиваль приехало восемнадцать национальных театров глухих. Кто хотел, мог посмотреть «Гамлета» на итальянском языке жестов, «Эдипа» на русском или множество новых пьес, поставленных на любом из восемнадцати языков жестов. Был основан Международный клуб глухих, и это стало началом, или возникновением, всемирного сообщества глухих.

Галлюцинации. В Средние века их объясняли духовным просветлением или, напротив, одержимостью дьяволом. Десятки людей были объявлены святыми, тысячи – сгорели на кострах инквизиции.В наше время их принято считать признаком сумасшествия, тяжелой болезни или следствием приема наркотических средств. Но так ли это?Вы крепко спите в своей комнате и внезапно просыпаетесь от резкого звонка в дверь. Вскочив, вы подходите к двери, но там никого нет. «Наверное, показалось», – думаете вы, не догадываясь, что это была типичная галлюцинация.

Книга, которая легла в основу одноименного знаменитого голливудского фильма с Робертом Де Ниро в главной роли! История, которая читается как хорошая фантастика, хотя в действительности в ней описана правда!
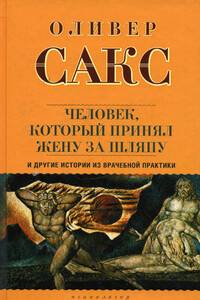
Оливер Сакс – известный британский невролог и нейропсихолог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами.«Человек, который принял жену за шляпу» – книга, написанная Оливером Саксом еще в 1971 году и выдержавшая с тех пор около десяти переизданий только на английском языке, не говоря уже о многочисленных переводах, – это истории современных людей, пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения психики и борющихся за выживание в условиях, совершенно невообразимых для здоровых людей, – и о мистиках прошлого, одержимых видениями, которые современная наука уверенно диагностирует как проявление тяжелых неврозов.

«Глаз разума» – одно из самых интересных произведений Оливера Сакса. Его ключевая тема – физиологические механизмы зрительного распознавания и разнообразные нарушения этих механизмов.Однако перед нами – не сухая научная работа, а живо, искренне и интересно написанные истории реальных людей, пытающихся побороть свои заболевания путем развития других способностей.Талантливая пианистка, потерявшая способность читать ноты с листа, и писатель, разучившийся читать. Профессор-нейробиолог, всю жизнь прожившая без стереоскопического зрения.

«Нога как точка опоры» – самое своеобразное из «клинических» произведений Сакса. Его необычность заключается в том, что известный ученый в результате несчастного случая сам оказывается в роли пациента.Однако автобиографическое произведение Оливера Сакса – не рутинная история заболевания и выздоровления, а живое, увлекательное и умное повествование о человеческих отношениях, физических, психологических и экзистенциальных аспектах болезни и борьбы с ней, и прежде всего – о физиологической составляющей человеческой личности.
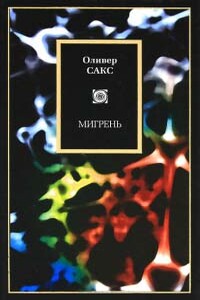
«Мигрень» – сборник «клинических» рассказов Сакса, описывающих реальные истории его пациентов. Наибольший интерес в них представляют не сугубо медицинские подробности (которых в сборнике на удивление мало), а собственные переживания пациентов – и совершенно новая концепция восприятия многих психических заболеваний, позволяющих их носителям, неизлечимым в определенной области, неожиданно раскрыть себя и добиться немалых успехов в областях иных.

Послевоенные годы знаменуются решительным наступлением нашего морского рыболовства на открытые, ранее не охваченные промыслом районы Мирового океана. Одним из таких районов стала тропическая Атлантика, прилегающая к берегам Северо-западной Африки, где советские рыбаки в 1958 году впервые подняли свои вымпелы и с успехом приступили к новому для них промыслу замечательной деликатесной рыбы сардины. Но это было не простым делом и потребовало не только напряженного труда рыбаков, но и больших исследований ученых-специалистов.
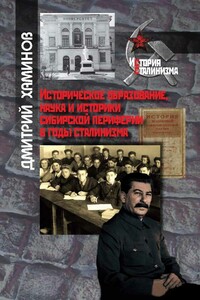
Настоящая монография посвящена изучению системы исторического образования и исторической науки в рамках сибирского научно-образовательного комплекса второй половины 1920-х – первой половины 1950-х гг. Период сталинизма в истории нашей страны характеризуется определенной дихотомией. С одной стороны, это время диктатуры коммунистической партии во всех сферах жизни советского общества, политических репрессий и идеологических кампаний. С другой стороны, именно в эти годы были заложены базовые институциональные основы развития исторического образования, исторической науки, принципов взаимоотношения исторического сообщества с государством, которые определили это развитие на десятилетия вперед, в том числе сохранившись во многих чертах и до сегодняшнего времени.

Монография посвящена проблеме самоидентификации русской интеллигенции, рассмотренной в историко-философском и историко-культурном срезах. Логически текст состоит из двух частей. В первой рассмотрено становление интеллигенции, начиная с XVIII века и по сегодняшний день, дана проблематизация важнейших тем и идей; вторая раскрывает своеобразную интеллектуальную, духовную, жизненную оппозицию Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого по отношению к истории, статусу и судьбе русской интеллигенции. Оба писателя, будучи людьми диаметрально противоположных мировоззренческих взглядов, оказались “versus” интеллигентских приемов мышления, идеологии, базовых ценностей и моделей поведения.
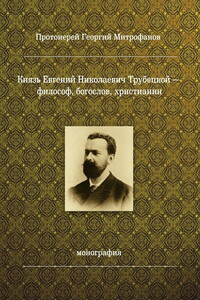
Монография протоиерея Георгия Митрофанова, известного историка, доктора богословия, кандидата философских наук, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, написана на основе кандидатской диссертации автора «Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения» (2008) и посвящена творчеству в области религиозной философии выдающегося отечественного мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920). В монографии показано, что Е.
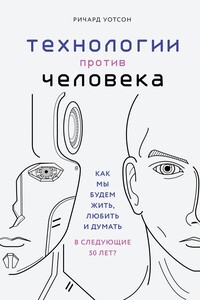
Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения, несомненно, изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? Чего мы ждем от новых технологий и что хотим получить с их помощью? Как они изменят сферу медиа, экономику, здравоохранение, образование и нашу повседневную жизнь в целом? Ричард Уотсон призывает задуматься о современном обществе и представить, какой мир мы хотим создать в будущем. Он доступно и интересно исследует возможное влияние технологий на все сферы нашей жизни.

Что такое, в сущности, лес, откуда у людей с ним такая тесная связь? Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов. «Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм.