Золотой юноша и его жертвы - [18]
Капитан осекся, услышав громкий смех Панкраца, и в недоумении огляделся. Видит: все кругом затихли и уставились на него, а пристальней всех — Васо. Слышит, как Панкрац сквозь смех сказал:
— Какого калибра у Васо глаза?
Постепенно, по мере того как капитан, не замечая ничего вокруг, все больше и больше увлекаясь, начал говорить слишком громко, он привлекал к себе внимание. Сначала на него бросал взгляды Васо, потом замолк нотариус. И наступила полная тишина, в которой раздавался только голос капитана. Панкрац все это видел, но преднамеренно, ибо капитан был ему смешон, желая выставить его в комическом свете, не остановил его. Теперь же, заметив его растерянность, рассмеялся еще громче, но, услышав Васо, который, выпучив глаза, ловил каждое слово капитана, быстро смолк.
— Ты стал блестящим проповедником, вполне можешь заменить Панкраца! А еще днем отрицал, что Панкрац с его коммунизмом что-то значит.
Несколько придя в себя от смущения, капитан хотел улыбнуться, но, услышав слова Васо, снова стал серьезным и покраснел, как девчонка:
— Не совсем так это было!
— Как же, вот и свидетели, — сослался Васо на нотариуса, который тоже поначалу смеялся, теперь же умолк и посмотрел на часы. — Ты отрекся от него как от большевика, а сейчас снова с ним беседуешь и восхваляешь большевизм! И это ты, капитан, присягавший королю!
Это вечно бдящее око Васо и было тем бременем, которое добродушного и честного капитана угнетало в армии и тем больше, чем отчетливее он сознавал, что, связанный офицерским званием, а также по слабости характера не решаясь порвать с ней, вынужден его нести. Так, — он и сам это знал, — он вынужден был промолчать сегодня во время выпада Васо против Панкраца, да и после, беседуя с Панкрацем, не высказал до конца то, что хотел. Определенную границу этой своей скрытности он, по сути дела, не перешел и сейчас, но теперь, когда Васо затронул его самое больное место, честь не позволила ему думать об осторожности. Впрочем, Васо поддел его без всякого на то основания, ведь говорил он, в сущности, о том, о чем свободно рассуждают и университетские профессора. О большевизме он высказался вскользь. Но, симпатизируя ему, капитан стал защищать его от нападок.
— Чего же ты хочешь? — вспылил он, вместо того, чтобы спокойно и убедительно ответить. — Большевизм распространился по всему миру. Его родоначальники славяне, и это не только революция, но и философия, и религия, и каждый интеллигентный человек должен определить свое отношение к нему!
— Что же я, по-твоему, неинтеллигентный? Конечно, нужно определиться, но ты уже сделал это… ты выбрал большевизм, это мошенничество, предательство, грабеж и жидовское дело! Каждый день об этом в газетах пишут. А ты, офицер, все это расхваливаешь!
— Газеты! Кто из всех этих журналистов бывал в России? Я, дорогой мой, помимо прочего, еще и человек, а не только мундир.
— Так, а я, выходит, свинья в мундире!
— Договорились! — прыснул Панкрац, тут же пожалев об этом, спор между Васо и капитаном его развлекал.
Теперь вскочил Васо, угрожающе поднял кулак, чуть не ударив при этом жену, возмущавшуюся наглостью Панкраца, и завелся:
— Не гавкай! Сгинь, чтоб глаза мои тебя не видели! Кто ты и что ты есть? Из милости здесь живешь, а строишь из себя бог знает кого! Думаешь, пропали бы без тебя! — Все это он хотел ему сказать еще тогда, когда вышел от тещи, сейчас же само собой сорвалось с языка. Поскольку Панкрац, ничего не отвечая, только посмеивался, он снова наскочил на капитана. — И с подобным большевистским ничтожеством ты беседуешь, приглашаешь его в гости! Нет, позволь, — капитан собирался его прервать, — если бы об этом узнало наше начальство…

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
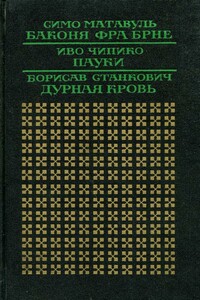
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

В лучшем произведении видного сербского писателя-реалиста Бранимира Чосича (1903—1934), романе «Скошенное поле», дана обширная картина жизни югославского общества после первой мировой войны, выведена галерея характерных типов — творцов и защитников современных писателю общественно-политических порядков.
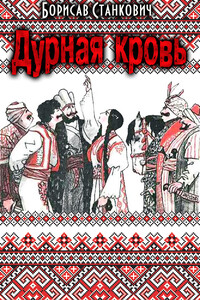
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
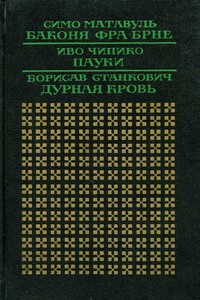
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
