Золотой поезд - [28]
— Знакомьтесь, это мой будущий сват, — сказал он, входя.
Бородатый человек быстро подошел к Шатровой, остановился около нее, пряча лицо в сторону, и дрожащим от волнения голосом произнес:
— Простите меня, Валентина Николаевна…
— Я не понимаю. В чем дело? — с недоумением смотрела на него Валя.
— Простите, Валентина Николаевна. По злобе, обидно было…
— Что такое? Говорите же скорее.
— Я написал на Кузьму Ивановича, — всхлипнул бородатый человек.
— Что написали? Не понимаю.
— Коменданту. Донос. А чтоб вернее было, и мужа вашего указал.
— Какая гадость, — Валя вскочила от негодования. — Негодяй! — крикнула она в лицо незнакомцу и хотела выбежать из комнаты, но только тут вспомнила, что надо заставить этого человека взять донос обратно.
— Простите, Валентина Николаевна. Дочь мою обокрали… — растерянно оправдывался незнакомец.
— Так вы на людей ни в чем неповинных из-за этого донос настрочили? Какая подлость! Пишите же скорей заявление, что донесли ложно.
— Боюсь я, а что если мне за это… Да и поверят ли?
— Заставьте поверить, чего бы это ни стоило. Мало вас самого упрятать в тюрьму.
— Вот и дочь моя теперь то же говорит, а сперва ревела, ревела, что Кузьма Иванович со свадьбой тянет. Что же писать-то?
— А когда донос сочиняли, знали, что писать? Садитесь и пишите.
Через полчаса Валя была в следственной комиссии. Она передала председателю заявление о ложном доносе и просила разрешить ей послать заключенному до его освобождения передачу.
— Пожалуйста, мадам. Вот вам моя записка к начальнику тюрьмы, — любезно раскланялся председатель следственной комиссии. — Дело Чистякова я разберу сам.
Кое-как, наспех закупив всяческой снеди, Шатрова торопила извозчика к тюрьме.
У железных дверей толпилось десятка два людей. Большинство из них — родственники уголовных, и только несколько человек пришли к политическим. Валя только сейчас догадалась, что через уголовных можно было бы послать кое-что и другим заключенным. «Как же раньше это не пришло мне в голову?» — думала она. Томительная процедура приближалась к концу, а дежурный надзиратель все еще не хотел разговаривать с Шатровой. Напрасно она ссылалась на разрешение следственной комиссии.
— Знаем мы, какие у вас разрешения, — оборвал грубо надзиратель. — Сказано тебе: политическим передачи нет.
— Я хочу видеть начальника тюрьмы.
— Подождешь, — спокойно захлопнул надзиратель тюремную калитку. — У меня от вашего брата целый день отбою нет.
Валя твердо решила повидать начальника тюрьмы сегодня же. В этой толпе ожидающих, связанных общим горем, она даже почувствовала себя несколько крепче. У всех свое горе, все его мужественно переносят, не она одна. Какая-то женщина тихо рассказывала, как погиб ее муж в первый же день занятия Екатеринбурга, — его расстреляли вместе с тремястами захваченными красноармейцами. Теперь она принесла передачу сыну, который тоже, может быть, не вернется назад. Высокий, сухой, седой священник, стоя с корзинкой продуктов, стыдливо прятался от людей в уголок тюремной ниши. Про него рассказывали, что, будучи в молодости черносотенцем, он громил в проповедях крамольников, и вот теперь, на старости лет, ему приходится воровски приносить передачу сыну, который арестован за то, что служил в канцелярии какого-то советского учреждения.
Ни слез, ни жалоб не слышно в толпе. Очевидно, горе закалило этих людей, и только в глазах у каждого можно было прочесть невеселые думы.
Калитка открылась, и из нее вышел сам начальник тюрьмы. Валя воспользовалась случаем и сунула ему в руку записку. Он внимательно прочел, что-то написал на обороте и попросил Шатрову зайти в контору. Там ей выдали разрешение на долгожданную передачу, и надзиратель, приготовившийся еще раз выругать назойливую посетительницу, посмотрев на разрешение, молча принял корзину с провизией.
Вечером того же дня к Реброву подсел один из заключенных.
— Товарищ Чистяков, наклонился он к уху Реброва, — они человека ищут, который к большевикам мог бы проехать…
— Кто это они и какого человека? — спросил Ребров.
— Ну, такого, который бы поехал к этим… ну, к большевикам. Там у них заложником мукомол один сидит. Надо, значит, поговорить, нельзя ли выменять на кого.. Тут, вишь, внизу по царскому делу две бабы сидят…
— Да я-то тут при чем? — оборвал его Ребров.
— Мне это сказал один тут… — замялся арестант, — я и думал, что ты самый подходящий…
— Самый подходящий под большевистскую пулю, — сказал Ребров. — Нет, ты кого другого попроси, а я от большевиков и так едва ноги унес.
Арестант повертелся еще несколько минут и потом отошел ни с чем.
«Дурака подсадили», — подумал Ребров.
Тюремные дни текли по-прежнему. День был долог от безделья, а когда он уходил, в памяти от него не оставалось никакого следа. Все же вечерами вызывали людей, и они исчезали навсегда. По-прежнему приходили опознаватели.
Раз сам комендант города Долов обходил тюрьму. Обросшего бородой, похудевшего Реброва было трудно узнать. Но, когда после лязга замка камеры Ребров увидел знакомую фигуру, он невольно прижался покрепче к подстилке и, несмотря на окрик «Встать!», пролежал так до ухода Долова, притворяясь спящим. Напрасно надзиратель толкал его сапогом. Он соскочил со своей подстилки, потягиваясь и протирая якобы со сна глаза, когда Долов уже уходил из камеры.
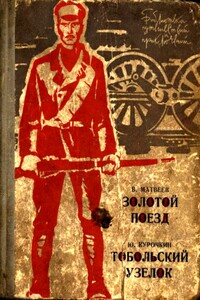
Автор этой повести Владимир Павлович Матвеев — активный участник установления Советской власти и борьбы с белогвардейцами на Урале. Он родился в 1898 году в Перми. В августе 1917 года, будучи студентом, вступил в большевистскую партию. В 1918–1920 годах был на советской, военной, партийной и газетной работе в Перми, Екатеринбурге и других городах Урала. Позже работал в Петрограде — Ленинграде, где и написал повесть «Золотой поезд» (другое название «Комиссар золотого поезда»). В предисловии к одному из изданий повести писал о своей литературной работе: «Я занимался журналистикой, военной и партийной работой и никогда не думал писать повести и рассказы. Но вот однажды в кругу своих друзей я рассказывал о том, как мы боролись на Урале за Советскую власть. Когда я кончил рассказывать, все молчали.