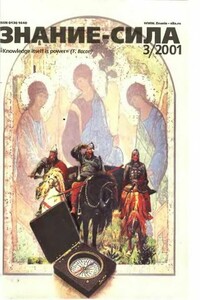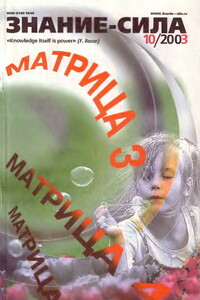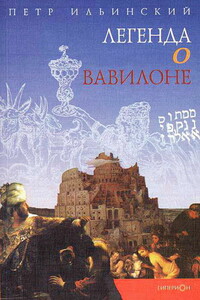Власти, кажется, так и не решили, противозаконно ли то, что он делал в лондонской галерее: британский Анатомический акт трудно трактовать однозначно. Сам фон Хагенс утверждал, что юридически здесь все в порядке, поскольку согласие на вскрытие дал в свое время и сам покойный, и его родственники. Во всяком случае, наказания, которым ему грозили еще до акции, фон Хагенс избежал. А на организуемые им выставки «Миры тела» зрители ходят, кстати, миллионами. Экспонаты их — тела с ободранной кожей, располосованные на части для полноты обзора, и отдельные их части: кости, мышцы, нервная система...
Приведенный пример — не из самых кричащих. Что сказали бы современники, если бы зрителям было предложено участвовать в рассечении художественного объекта или его части раздавались им на память? Что-то похожее, кстати, уже делалось, правда, не с человеком, а со свиньей. Художественная общественность до сих пор не может забыть акцию Олега Кулика — ставшего позже известным благодаря своему превращению в собаку[>1 Он ходил на четвереньках (конечно, голым — кто же видывал животное в одежде?), лаял, выл, кусался и вообще делал все, что ему полагалось по собачьему статусу.] — в галерее «Риджина». Тогда, в 1992-м, в рамках проекта «Пятачок делает подарки», закололи живую свинью, разделали тушу и раздали мясо зрителям.
Олег Кулик — собака
Иные предпочитают умирать сами — и не всегда понарошку, как сделал, например, в 1998 году екатеринбургский художник Александр Шабуров, устроив акцию «Кто как умрет» — гражданскую панихиду по себе: лег в гроб в выставочном зале, пригласил 350 человек и развесил по стенам списки с предсказаниями даты и причины смерти приглашенных. Московская художница Елена Ковылина пошла еще дальше. В 1999 году в Зверевском Центре Современного Искусства она стояла на табуретке с укрепленной на потолке петлей на шее. Всем желающим предлагалось вышибить из-под нее табуретку. Еще через пару лет она устроила в венском Музее декоративно-прикладного искусства настоящий тир и ездила на самокате между зрителями и мишенями, в которые те стреляли, провоцируя стрелков попасть в нее. Все, между прочим, серьезно. Еще в 1969-м представитель венского акционизма — «прямого искусства», сторонники которого не только расчленяли животных, но и калечили себя. Рудольф Шварцкоглер в рамках очередной акции кастрировал себя и умер от потери крови.
Но что это мы все о грустном? Вот члены пензенской группы актуального искусства «Музей детородного творчества», напротив, в порядке художественного проекта (1998-2002) делали детей — в прямом смысле, с условием согласия матерей и их отказе от претензий к отцам. 15 человек родилось, между прочим.
Правы ли те, кто видит в таком художестве нарушение всех мыслимых границ — и этических, и иной раз — юридических, не говоря об эстетических... А где здесь, собственно, эстетика?
И что, мысли о «разрушении», «гибели», «распаде» искусства не имеют под собой совсем никаких оснований?
Началось все это давно. Уже к началу прошлого века процесс зашел так далеко, что «конец искусства»[>2 Так, Владимир Вейдле писал об «умирании искусства», Артур Данто — о его «конце», Жан Бодрийяр — о его исчезновении в «трансэстетике банальности», Поль Вирильо о «делокализации» его предмета...] успел превратиться в безнадежное общее место, интересное разве тем, что выработало для рассуждений на эту тему весьма разнообразную риторику.
Но не странно ли: похороны длятся больше сотни лет, а пациент все жив и, более того, изумляя могильщиков, принимает новые облики?
Может быть, впервые за много столетий искусство показывает свою демоническую, необузданную, страшную природу. Не впервые ли за всю историю человечества? До сравнительно недавних пор — по крайней мере, до начала Нового времени — эта природа была не вполне известна: искусство было встроено в другие практики (прежде всего в религию) и направляло свою энергию на их — но не на собственные — цели.
Эмансипация искусства от всех нехудожественных практик — ситуация уникальная, сложившаяся лишь в западной части света за последние несколько веков, и особенно в ХХ веке. Последствия этой эмансипации мы начинаем испытывать на себе лишь сейчас — возможно, они еще в самом начале своего развития.
Художественные действия вроде опытов фон Хагенса и эскапад Кулика — сколь бы разной ни была их природа — заставляют задуматься: если это — искусство, что следует понимать под искусством? Какова его суть, если оно может оставаться собой, явно не будучи ничем из того, что человек привык называть именем искусства на протяжении столетий? Где и почему оно начинается, где и почему кончается, какую конфигурацию имеют его границы и до какой степени они проницаемы и подвижны?
Кстати о границах. Похоже, проблематизация границ (нарушение их и соединение прежде не соединявшегося) — основное занятие и общий признак так называемого «современного» искусства. («Современность» здесь — понятие столь расплывчатое, что хорошо бы уже заменить его на что-нибудь другое: эта современность длится — если отсчитывать от первых явлений авангарда — доброе столетие и успела вместить в себя не одну эпоху. Вряд ли подойдет и «нон-классика», опять же потому, что охватывает огромную и разнородную область явлений. Не говоря уж о том, что у «современного» искусства давным-давно есть своя классика.)