Зимние заметки о летних впечатлениях - [2]
Но тут вы меня останавливаете. Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностыо (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. Одним словом, что вам надобны только собственные, но искренние мои наблюдения.
– А! – восклицаю я, – так вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схваченных на лету. На это согласен и тотчас же справлюсь с записной моей книжкой. И простодушным быть постараюсь, насколько могу. Прошу только помнить, что, может быть, очень многое, что я вам напишу теперь, будет с ошибками. Невозможно ведь ошибиться, например, в таких фактах, что в Париже есть Нотр-Дам и Баль-Мабиль. Особенно последний факт до того засвидетельствован всеми русскими, писавшими о Париже, что в нем уже почти нельзя сомневаться. В этом-то, может, и я не ошибусь, а, впрочем, в строгом смысле и за это не ручаюсь. Ведь говорят же вот, что быть в Риме и не видать собора Петра невозможно. Ну так посудите же: я был в Лондоне, а ведь не видал же Павла. Право, не видал. Собора св. Павла не видал. Оно конечно, между Петром и Павлом есть разница, но все-таки как-то неприлично для путешественника. Вот вам и первое приключение мое, не доставляющее мне большой славы (то есть я, пожалуй, и видел издали, сажен за двести, да торопился в Пентонвиль, махнул рукой и проехал мимо). Но к делу, к делу! И знаете ли: ведь я не все только ездил и смотрел с птичьего полета (с птичьего полета не значит свысока. Это архитектурный термин, вы знаете). Я целый месяц без восьми дней, употребленных в Лондоне, в Париже прожил. Ну вот я вам и напишу что-нибудь по поводу Парижа, потому что его все-таки лучше разглядел, чем собор св. Павла или дрезденских дам. Ну, начинаю.
Глава II
В вагоне
«Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Эту фразу написал еще в прошлом столетии Фонвизин, и, боже мой, как, должно быть, весело она у него написалась. Бьюсь об заклад, что у него щекотало от удовольствия на сердце, когда он ее сочинял. И кто знает, может, и все-то мы после Фонвизина, три-четыре поколенья сряду, читали ее не без некоторого наслаждения. Все подобные, отделывающие иностранцев фразы, даже если и теперь встречаются, заключают для нас, русских, что-то неотразимо приятное. Разумеется, только в глубокой тайне, даже подчас от самих себя в тайне. Тут слышится какое-то мщение за что-то прошедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас. Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом подозревают, и при этом вовсе не притворяемся, а между тем, я думаю, сам Белинский был в этом смысле тайный славянофил. Помню я тогда, лет пятнадцать назад, когда я знал Белинского, помню, с каким благоговением, доходившим даже до странности, весь этот тогдашний кружок склонялся перед Западом, то есть перед Францией преимущественно. Тогда в моде была Франция – это было в сорок шестом году. И не то что, например, обожались такие имена, как Жорж Занд, Прудон и проч., или уважались такие, как Луи Блан, Ледрю-Роллен и т. д. Нет, а так просто, сморчки какие-нибудь, самые мизерные фамильишки, которые тотчас же и сбрендили, когда до них дошло потом дело, и те были на высоком счету. И от тех ожидалось что-то великое в предстоящем служении человечеству. О некоторых из них говорилось с особенным шепотом благоговения… И что же? В жизнь мою я не встречал более страстно русского человека, каким был Белинский, хотя до него только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо, как он, негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал все русское. Я по некоторым данным это все теперь соображаю и припоминаю. Так вот, кто знает, может быть, это словцо Фонвизина даже и Белинскому подчас казалось не очень скандальным. Бывают же минуты, когда даже самая благообразная и даже законная опека не очень-то нравится. О, ради бога, не считайте, что любить родину – значит ругать иностранцев и что я так именно думаю. Совсем я так не думаю и не намерен думать, и даже напротив… Жаль только, что объясниться-то яснее мне теперь некогда.
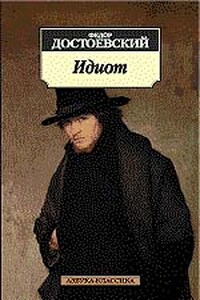
«Идиот». Роман, в котором творческие принципы Достоевского воплощаются в полной мере, а удивительное владение сюжетом достигает подлинного расцвета. Яркая и почти болезненно талантливая история несчастного князя Мышкина, неистового Парфена Рогожина и отчаявшейся Настасьи Филипповны, много раз экранизированная и поставленная на сцене, и сейчас завораживает читателя...По изданию: “Идиот. Роман в четырех частях Федора Достоевского. С.-Петербург. 1874”, с исправлениями по журналу “Русский Вестник” 1868 года с сохранением орфографии издания.
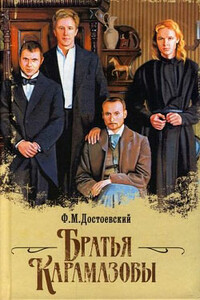
Самый сложный, самый многоуровневый и неоднозначный из романов Достоевского, который критики считали то «интеллектуальным детективом», то «ранним постмодернизмом», то – «лучшим из произведений о загадочной русской душе».Роман, легший в основу десятков экранизаций – от предельно точных до самых отвлеченных, – но не утративший своей духовной силы…
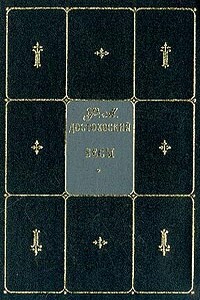
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Преступление и наказание» – гениальный роман, главные темы которого: преступление и наказание, жертвенность и любовь, свобода и гордость человека – обрамлены почти детективным сюжетом.Многократно экранизированный и не раз поставленный на сцене, он и по сей день читается на одном дыхании.
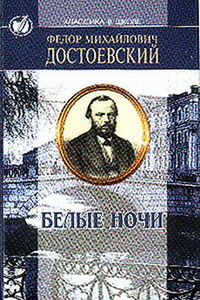
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
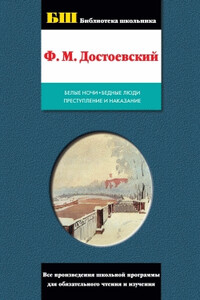
Прочитав рукопись романа «Бедные люди», Некрасов передал ее Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!».По форме это сентиментальная переписка между мелким чиновником Макаром Девушкиным и Варенькой Доброселовой, грустная история их несчастной любви; по сути – глубокое социально-психологическое исследование современной писателю действительности. Автор горячо сочувствует своим обездоленным героям, чьей внутренней красоте и благородству души столь вопиюще не соответствуют условия жизни…

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.