Жизнь Владислава Ходасевича - [58]
«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.<…>
Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать уже нечем. Жизнь потеряла смысл».
Он говорил уже не о Пушкине, а о поэте вообще, о нынешнем дне, о самом себе.
Ходасевич выступал вместе с Блоком и другими, после Блока, 13 февраля (к первому вечеру — 11 февраля — он не успел подготовиться) и 26 февраля, и это было для него честью — Блока он всегда любил и считал самым крупным из современных поэтом. И он тоже сказал тогда о Пушкине свои, весомые, запоминающиеся слова.
Называлась его речь чуть измененными словами Пушкина — «Колеблемый треножник» («И в детской резвости колеблет твой треножник»). Он говорил о многомерности произведений Пушкина, о существовании в них, особенно в поэмах, ряда «параллельных смыслов»: «Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придает такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. <…> Воистину — творец Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворенный Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю».
Многообразность, многозначимость произведений Пушкина влечет за собой, по словам Ходасевича, и многообразие толкований; это неизбежно, но в последнее время некоторая неожиданность суждений начинает бросаться в глаза. Здесь Ходасевич говорил и о книге своего друга Гершензона «Мудрость Пушкина», книге «в высшей степени ценной и интересной», но в каких-то толкованиях пушкинских текстов слишком спорной, находящейся «уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи»; и о формалистах — о тех, «кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная». Он назвал их «писаревцами наизнанку».
Писарев, который «„упразднил“ Пушкина, объявив его лишним и ничтожным», тоже, конечно, был упомянут: «Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, что недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему».
И далее Ходасевич с известной мерой осторожности говорит о том, как изменилась эпоха, российская действительность, какой гигантский бросок сделала история. «Мир, окружающий нас, стал иной. <…> Прежняя Россия, а тем самым Россия пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился: что бы ни предстояло — старое не вернется». Культуру ожидает «полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе и помрачен будет образ Пушкина». Эти общие сумерки культуры, это «затмение» Пушкина, скорей всего, рассеются, но не пройдут бесследно. «Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда…»
И Ходасевич с грустью говорит, что Пушкин отодвинется от нас, что лицо его станет лицом полубога, бронзовой статуи. «Но многое из того, что видели и любили мы», потомки уже не увидят.
«То, о чем я говорил, должно ощутиться многими как жгучая тоска, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне хочется спрятаться, но что делать? История вообще неуютна. „И от судеб защиты нет“.
Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоятельной потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием еще раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой».
Это было горькое, трагическое, но вполне осознанное пророчество.
Речь кончалась так: «…это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мраке».
Мариэтта Шагинян, приятельница Ходасевича еще по Москве, написала потом о его речи: «Речь Ходасевича кончилась неожиданным для него триумфом: все ему неистово хлопали. Я ее прочитала: она лирическая и вызывает лирическое потрясение. Она вся построена на личной нежности к Пушкину и исторической субъективизации общественных настроений с точки зрения „нас“ <…>; говорю „нас“, но это „мы“ у Ходасевича почти что „я“, эготическое общение с Пушкиным». Об этой речи написала потом с восхищением, прочитав ее, София Парнок: «…чтоб не забыть нам, чьим именем нам надлежит аукаться в последний неминуемый час, живет среди нас Ходасевич».
Вместе с Блоком и Ходасевичем выступали 13 февраля Михаил Кузмин, литературовед Эйхенбаум и журналист Харитон, а 26 февраля — снова Эйхенбаум, журналист Волковыский и Сологуб.
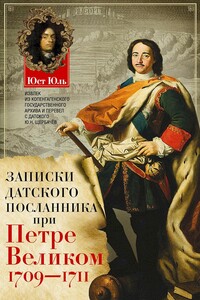
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
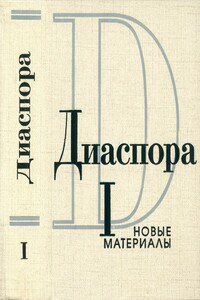
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.