Живые лица - [50]
Может быть, и нельзя иначе, — нельзя было иначе тогда. Ведь все-таки он имел вид обыкновенного человека, ходил на двух ногах, носил галстух и серые брюки, имел детей, дар слова… и какой дар! Может быть, потому, что он, с этим даром, не ограниченный никакими человеческими законами, жил среди нас, где эти законы действуют, мы даже права не имели не охранять их от него? Всякое человеческое общество — монастырь. Для Розанова — чужой монастырь (всякое!). Он в него пришел… со своим уставом. Может ли монастырь позволить одному-единственному монаху жить по его собственному уставу? «Оставьте меня в покое». «Да, но и ты оставь нас в покое, уходи».
«Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали», — говорит Розанов и начинает писать двумя руками: в «Новом времени» одно, — в «Русском слове», под прозрачным и не скрывающимся псевдонимом, — другое.
Обеими руками он пишет искренно (как всегда), от всей махровой души своей.
Он прав.
Но совершенно прав и П. Б. Струве, печатая в «Русской мысли» рядом параллельные (полярные) статьи Розанова и обвиняя его в «двурушничестве».
Однако я забегаю вперед.
Возвратясь в Петербург, мы нашли Розанова с виду совершенно таким же, каким оставили. Таким же суетливым, интимничающим, полушепотным говорком болтающим то о важном, то о мелочах. Лишь приглядываясь, можно было заметить, что он еще больше размахровился, все в нем торчит во все стороны, противоречия еще подчеркнулись.
Впрочем, особенно приглядываться не было случая: Розанова мы стали видеть не часто. Вышло это само собою. С ним и вообще-то никогда ничего нельзя было вместе делать, а тут почувствовалось, что и нечего делать.
В Петербурге же, после «половинной» революции, многие вообразили, что можно что-то «делать», — во всяком случае, тянулись к активности.
О Розанове ходило тогда много слухов, вернее — сплетен, о разных его прошлых «винах», которыми мы не интересовались. Да и мало верили: жена все еще была сильно больна, и в Розанове, хотя он об этом не говорил, очень чувствовалась боль смертная и забота.
Раз как-то забежал к нам летом, по дороге на вокзал (жил тогда на даче, в Луге, кажется).
Торопливый, с пакетами, в коричневой крылатке. Но хоть и спешил — остался, разговорился. Так в крылатке и бегал нервно по комнате, блестя очками.
Разговор был, конечно, о религии и опять о христианстве. Отношение к нему у Розанова показалось мне мало по существу изменившимся. Те же упреки, что христианство не хочет знать мира с его теплотой и любовью, не приемлет семью и т. д. Потом вдруг:
— Вы ведь «апокалиптические» христиане… А какое же там, в Откровении, христианство?[216] Я Откровение принимаю… Я даже четвертое евангелие, всего Иоанна, готов принять. Только не синоптиков.[217] Давайте, откажитесь от синоптиков — будем вместе…
Мы, конечно, от синоптиков не отказались, но в эту минуту кто-то принес показать Розанову наших маленьких щенков, шестинедельных младенцев-таксиков, — и на них тотчас обратилось все его внимание.
— Вот бы детям… Ах, Боже мой… Вот бы детям свезти…
— Да возьмите, Василий Васильевич, выберите, какого лучше, и тащите с собой на дачу.
— Ах, Господи… Нет, я не смею. Дома еще спросят: что? откуда? Нет, не смею. А хорошо бы…
Мы вспомнили, что для Розанова и наш дом был всегда «запрещенным»: жена считала его «декадентским», где будто бы Василия Васильевича… отвращают от православия.
— Скажите, что на улице нашли, — продолжаю я убеждать Розанова насчет щенка.
— Не поверят… Нет, не смею… Так и ушел, не взял.
Мы застали в Петербурге, как бы на месте старых Р[елигиозно]-ф[илософских] собраний, целое Рел[иги-озно-]фил[ософское] общество, легализированное и многолюдное.
Ничего похожего на прежние, полуподпольные, острые Собрания. Председатель — Карташев, выходец «из-за железного церковного занавеса», но выходец окончательный: еще до нашего отъезда мы его убедили (с большими трудами, точно предлагали броситься в холодную воду) — покинуть Духовную академию. Он решился наконец (тем более что положение его было уже там непрочно) и, вместе с несколькими другими, выплыл в житейское море.
Волны этого моря не оказались коварными для него: он устроился в Публичной библиотеке, а затем стал преподавателем богословия на Женских курсах. Печать некоторой постоянной «боязни», вечное оглядыванье, еще отличала в нем человека из «иного мира»; но понемногу он приучался к «светской» свободе.
Р[елигиозно]-ф[илософское] общество, где его выбрали председателем, было, в сущности, одним из обыкновенных интеллигентских обществ. Только с некоторым привкусом «московского идеализма» (чуть уловимый крен к православию). Священники посещали его, но об архиереях, о черном духовенстве — и помину не было. Полное отсутствие так называемой «учащей церкви».
Мы, несмотря на чуждый нам уклон, вошли в Совет общества и естественно внесли туда мятежный дух, меняющий направление. Это, впрочем, делалось медленно и не без трудов.
Розанов в Совете не состоял. Он только, по памяти, был одним из первых действительных членов — или даже членом-учредителем, не помню. На заседания ходил, но никаких докладов не читал. Все было другое. По времени — острота лежала в чуждом Розанову вопросе: не о религиозном поле, а о религиозной общественности.

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью.Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин XX века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.http://ruslit.traumlibrary.net.

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин ХХ века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Всем нам хорошо известны имена исторических деятелей, сделавших заметный вклад в мировую историю. Мы часто наблюдаем за их жизнью и деятельностью, знаем подробную биографию не только самих лидеров, но и членов их семей. К сожалению, многие люди, в действительности создающие историю, остаются в силу ряда обстоятельств в тени и не получают столь значительной популярности. Пришло время восстановить справедливость.Данная статья входит в цикл статей, рассказывающих о помощниках известных деятелей науки, политики, бизнеса.
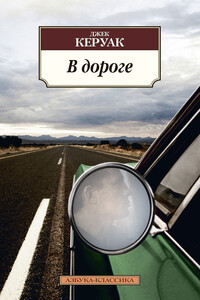
Джек Керуак дал голос целому поколению в литературе, за свою короткую жизнь успел написать около 20 книг прозы и поэзии и стать самым известным и противоречивым автором своего времени. Одни клеймили его как ниспровергателя устоев, другие считали классиком современной культуры, но по его книгам учились писать все битники и хипстеры – писать не что знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою природу. Именно роман «В дороге» принес Керуаку всемирную славу и стал классикой американской литературы.

Один из лучших психологических романов Франсуазы Саган. Его основные темы – любовь, самопожертвование, эгоизм – характерны для творчества писательницы в целом.Героиня романа Натали жертвует всем ради любви, но способен ли ее избранник оценить этот порыв?.. Ведь влюбленные живут по своим законам. И подчас совершают ошибки, зная, что за них придется платить. Противостоять любви никто не может, а если и пытается, то обрекает себя на тяжкие муки.

Сергей Довлатов — один из самых популярных и читаемых русских писателей конца XX — начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова давно стала классикой и роднит писателя с такими мастерами трагикомической прозы, как А. Чехов, Тэффи, А. Аверченко, М. Зощенко. Настоящее издание включает в себя ранние и поздние произведения, рассказы разных лет, сентиментальный детектив и тексты из задуманных, но так и не осуществленных книг.

Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы (1925–1970) «Исповедь маски», прославивший двадцатичетырехлетнего автора и принесший ему мировую известность, во многом автобиографичен. Ключевая тема этого знаменитого произведения – тема смерти, в которой герой повествования видит «подлинную цель жизни». Мисима скрупулезно исследует собственное душевное устройство, добираясь до самой сути своего «я»… Перевод с японского Г. Чхартишвили (Б. Акунина).