Живые цифры - [6]
Все время я, как уже сказано ранее, держался в моем поведении строго научного метода. Но после того, как куча сена на моих глазах оказалась с увеличившимся содержанием, я почувствовал, что едва ли можно еще дополнить чем-нибудь новым уже и без того слишком многосложное содержание статистической дроби. «Что еще может быть добавлено в ее объяснение?» — спрашивал я сам себя и положительно не перенес бы дальнейшей строгости в сохранении себя на научной точке зрения, если бы в самом деле к виденному можно было бы что-нибудь добавить еще. Мне было довольно простого умножения количества видимых глазами куч на силы двух человеческих существ, чтобы тотчас же прекратить продолжение моего исследования.
И я действительно не мог продолжать его. Я ушел домой… Что я могу знать, живя в деревне? Но цифры, которые я до сих пор игнорировал и которые я неожиданно увидал во образе человеческом, — цифры могут мне помочь разобраться в человеческих единицах и дробях. И с тех пор я предался статистике, а чтобы доказать читателю, что плоды моих усилий были не тщетны, я расскажу ему самый крошечный эпизодик, случившийся со мной по поводу еще одной самой маленькой человеко-дроби.
II. КВИТАНЦИЯ
Эпизодик с этой капельной цифрой случился со мною в то время, когда я только что предался изучению статистики, был, так сказать, в самой первой поре увлечения, и поэтому, я надеюсь, читатель извинит мне, если доводы, вследствие которых во мне родилось побуждение во что бы то ни стало видеть своими глазами упомянутую микроскопическую цифру, покажутся ему лишенными точных научных оснований и почти не логическими. Невольные ошибки начинающего должны быть извиняемы, и в надежде на это я расскажу процесс моего мышления в данном деле без всякой утайки: дело в том, что, начитавшись местных данных, я без перерыва принялся за материалы, собранные столичными статистиками, и здесь, в отделе браков, прироста, рождаемости и смертности населения, я натолкнулся на цифру, которая мне (по неопытности) показалась совершенно необъяснимой: оказывается, что в Петербурге ежемесячно нарождается до 700 детей, у которых нет ни отцов, ни матерей. В графе «отцы» стоит 0, в графе «матери» — тоже 0, а в итоге написано: итого 700 штук человек.
Научный метод мышления настолько еще не овладел мною и моими соображениями, что я решительно не мог оставить в покое этих нулей, из которых выходят целые «люди», и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытных вычислений, цель которых была доказать себе, что из двух нулей не может произойти ребенок и что для появления его на свет необходимы хотя какие-нибудь отце— и матереобразные дроби, я, при помощи сложения и деления, вычислил, что на каждого из 700 человек детей в среднем выводе приходится не 0 и 0, а (принимая во внимание всю сумму единиц, составляющих то, что называется «обществом») все-таки некоторая дробь отцовского и материнского элемента. Естественно, во мне родилось желание разыскать то существо въяве и вживе, которое может уделить на выполнение материнского дела только одну сотую часть (таково было мое вычисление) своего существования. И где же остальные девяносто девять частей человека, матери, женщины?
Нисколько не защищаясь против могущих быть упреков со стороны читателей в недостатках сделанных мною вычислений, я должен сказать, однако, что лично во мне эти вычисления выразились в весьма определенном и решительном поступке. В первый же приезд мой в Петербург я, под влиянием всевозможных соображений, которых теперь не могу даже припомнить хорошенько, прямо с вокзала велел извозчику ехать в воспитательный дом; может быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что наш деревенский поезд приходил раньше всех других поездов, когда над Петербургом лежит еще тьма зимней ночи, когда весь Петербург спит, и когда только что начинают открываться булочные, и вообще когда негде приткнуться, чтоб напиться чаю или же не к кому заехать, чтобы не разбудить утомленного петербуржца и не побеспокоить его. Как бы то ни было, но я думаю — перевес в моих поступках брало не столько нежелание беспокоить моих знакомых, сколько опять-таки увлечение многосодержательностью статистических цифр, овладевших в последнее время всем моим вниманием. Полагаю, что последнее влияние было во мне преобладающим, и говорю это на том основании, что сторож, к которому меня подвез извозчик и который стоял около того места воспитательного дома, где идет «продажа карт», долгое время слушал мои вопросы и разглагольствия как бы в каком-то недоумении и, наконец, повидимому, сам заразился моей статистической терминологией. Как бы в подражание моему специально-статистическому языку, он стал разговаривать со мною тоже каким-то странным и также как бы научным языком.
— Рождаемость? — в недоумении проговорил он, как бы приходя в себя от моих многосложных вопросов. — Рождаемость… это с Мойки вам надо заехать… Придется объезжать по Невскому и оттуда, от мосту, по левой руке… Там идет эта самая… например, рождаемая приноска. Из тех ворот с уткой и утятами… Туда бабы волокут свое нарождение, с Мойки. А в наши ворота идет уже выпуск — кое в деревню, а кое на гигиен-станцию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
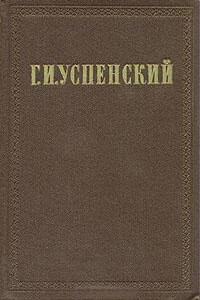
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
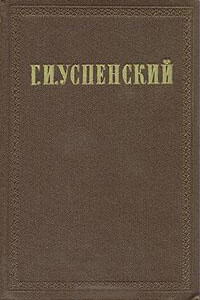
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
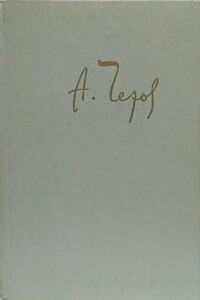
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.