Жилюки - [154]
А через несколько дней случилось ужасное. В полдень под Бережанами вспыхнул короткий бой. Конный партизанский разъезд напоролся на засаду аковцев и почти весь погиб в перестрелке. В живых остался лишь один всадник. Конь под ним, рассказывали, был убит еще в начале стычки, партизан же, раненный в ногу, отполз в кусты, но его нашли и привели в село.
Партизан был средних лет, черночубый, курчавый, из его карманов аковцы вытряхнули медаль «За отвагу». Однако каких-нибудь документов, которые свидетельствовали бы о принадлежности к отряду или соединению, не нашли. Чарнецкий долго допрашивал раненого, его интересовала дислокация партизан, их количество и расположение баз, однако пленный ничего конкретного не сказал. Возможно, он всего этого и не знал. Чарнецкий велел расстрелять его. Экзекуция должна была произойти на глазах всего села — чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно твердости местной власти, которая отныне должна считаться единственной и законной.
Пока боевики сгоняли на площадку крестьян, Чарнецкий позвал Павла и, ехидно улыбаясь, промолвил:
— Вот и представился тебе случай доказать свою верность и преданность. Ты должен уничтожить этого советика.
Павел оторопел: чего-чего, а такого он не ждал. Пусть бой — там другое, там свои законы, а это же… перед всем селом… добивать раненого, безоружного…
— Я просил бы пана офицера лишить меня такой чести…
— Это почему же? — наигранно удивился Чарнецкий.
— Здесь моя жена…
— Ну и что? Тебе поручается почетная акция.
— Но я солдат, не палач.
— Этого требуют высшие интересы.
— Не думаю, — Павел понял, что в самом деле наступила его если не решающая, то критическая минута. И говорить, действовать он должен без страха, как это надлежит человеку в особый момент его жизни.
— Лайдак![25] — воскликнул Чарнецкий. — Ты сделаешь так, как прикажу я, иначе… — Вдруг он притих и, тяжело дыша, прохрипел Павлу в лицо: — Иначе сам ляжешь рядом с ним.
Павел не сомневался в возможности такого конца, внутренне даже приготовился его встретить — наступает же когда-то миг расплаты, должен наступить!
…Небольшой песчаный плац перед домом, где они расположились, был в Бережанах местом сходок, проводов рекрутов и всяких других сельских событий. До империалистической войны в противоположном конце площади, на пригорке, стояла деревянная церквушка, — по воскресеньям и праздникам деревенский люд собирался к ней на богомолье. Здесь всегда играла детвора… Но во время войны божий храм сгорел, отстраивать его за всякими хлопотами не пришлось, вот и обезлюдела площадь. Правда, площадь немного оживала, покрывалась веселой травкой, которая к середине лета высыхала, жухла, а осенью, если не было дождей, сметалась ветрами.
Сегодня площадь тоже не радовала глаз. Она лежала молчаливая, серая, мрачная. Силком согнанные люди прижимались к плетням и сарайчикам, скупо переговаривались, удивляясь какой-то необычной затее пана поручика.
Но когда вояки выстроились, а из помещения бывшей управы двое вооруженных вывели раненого, и — судя по всему — не своего, да как вскрикнула в толпе какая-то молодица, поняли: ныне здесь пахнет смертью. За теми тремя шел сам поручик с пистолетом в руке и еще какой-то не сельский, не бережанский, хотя и видели они его в последнее время у себя, тоже вооруженный.
— Павлуша! — кинулась к нему молодица, но ее оттолкнули.
Пленного поставили посреди плаца, в одиночестве, — двое, сопровождавшие его, отступили, давая место поручику и тому, не местному, что шел с ним.
Офицер сказал, что отныне они здесь полноправные хозяева, что бережанцы никому другому не должны подчиняться, никого другого не должны признавать, ибо все другие — это пришлые, чужаки, как вот этот, большевистский лазутчик, предатель… Затем он подтолкнул стоявшего рядом с ним, однако тот не пошевельнулся, будто оцепенел, тогда поручик ткнул его пистолетом под лопатки. Снова раздался женский крик, и автомат начал подниматься. Вот ствол его уже на уровне живота пленного, вот на миг словно бы остановился и вновь пополз выше. Площадь замерла, даже молодица уже не кричала, онемела.
— Стреляй, пся крев! — тихо, но так, что все слышали, приказывал офицер. — Считаю до трех…
— Люди добрые! Он ведь невиновен! Он ведь ничего… — Молодица все-таки прорвала заслон, спотыкаясь в песке, побежала на середину площади, где стояли трое, но ее снова перехватили, на этот раз зажали рот, оттащили.
— …Два, — будто сквозь сон, донеслось до сознания Павла, и он почувствовал, как теплая сталь пистолета все сильнее впивается под лопатку, совсем близко от сердца.
— «Три» не услышишь! — прошипел за спиной Чарнецкий.
Павел глянул в ту сторону, где билась в руках аковцев Мирослава, задержался на миг, затем перевел взгляд на искаженное от боли и мук лицо партизана и, не заметив на нем ни тени страха, мольбы, а лишь презрение и проклятье, выровнял автомат и выстрелил…
Домой он в тот день не вернулся. После расстрела отряд вскочил на коней и поскакал в лес. Павел ушел с ними.
VII
Вот какого гостя привела к Мирославе ночь. Избушка ее стояла на окраине Копаня, там, где заканчивались обычные людские жилища и начиналось царство вечности, вечный покой. Домик принадлежал когда-то кладбищенскому сторожу, но война обесценила его занятие, куда-то увела или, может, и самого положила к тем, кого он годами добросовестно оберегал. Мирослава ничего этого не знала, да и не к чему оно ей было, одинокой, неприкаянной. Старенькая полька, у которой она жила, умерла еще тогда, когда Мирослава, покинув Копань, укрывалась от отправки в Германию; домик, рассказывали, вместе с другими сгорел во время бомбежки, вот и пришлось ей искать убежище в другом месте. Избушка кладбищенского надзирателя, хотя и отпугивала необычностью своего расположения, уединенностью и неудобством, все-таки имела и некоторые — учитывая положение Мирославы — преимущества. Во-первых, никто на нее не претендовал, во-вторых, близко от автобусной станции, от работы, в-третьих…
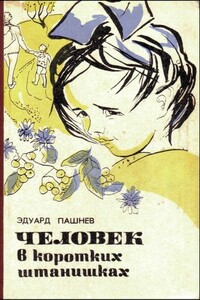
«… Это было удивительно. Маленькая девочка лежала в кроватке, морщила бессмысленно нос, беспорядочно двигала руками и ногами, даже плакать как следует еще не умела, а в мире уже произошли такие изменения. Увеличилось население земного шара, моя жена Ольга стала тетей Олей, я – дядей, моя мама, Валентина Михайловна, – бабушкой, а бабушка Наташа – прабабушкой. Это было в самом деле похоже на присвоение каждому из нас очередного человеческого звания.Виновница всей перестановки моя сестра Рита, ставшая мамой Ритой, снисходительно слушала наши разговоры и то и дело скрывалась в соседней комнате, чтобы посмотреть на дочь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
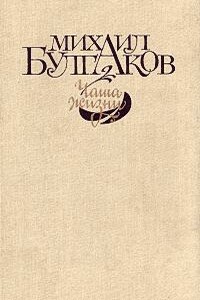
Глав-полит-богослужение. Опубликовано: Гудок. 1924. 24 июля, под псевдонимом «М. Б.» Ошибочно републиковано в сборнике: Катаев. В. Горох в стенку. М.: Сов. писатель. 1963. Републиковано в сб.: Булгаков М. Записки на манжетах. М.: Правда, 1988. (Б-ка «Огонек», № 7). Печатается по тексту «Гудка».

Эту быль, похожую на легенду, нам рассказал осенью 1944 года восьмидесятилетний Яков Брыня, житель белорусской деревни Головенчицы, что близ Гродно. Возможно, и не все сохранила его память — чересчур уж много лиха выпало на седую голову: фашисты насмерть засекли жену — старуха не выдала партизанские тропы, — угнали на каторгу дочь, спалили дом, и сам он поранен — правая рука висит плетью. Но, глядя на его испещренное глубокими морщинами лицо, в глаза его, все еще ясные и мудрые, каждый из нас чувствовал: ничто не сломило гордого человека.

СОДЕРЖАНИЕШадринский гусьНеобыкновенное возвышение Саввы СобакинаПсиноголовый ХристофорКаверзаБольшой конфузМедвежья историяРассказы о Суворове:Высочайшая наградаВ крепости НейшлотеНаказанный щегольСибирские помпадуры:Его превосходительство тобольский губернаторНеобыкновенные иркутские истории«Батюшка Денис»О сибирском помещике и крепостной любвиО борзой и крепостном мальчуганеО том, как одна княгиня держала в клетке парикмахера, и о свободе человеческой личностиРассказ о первом русском золотоискателе.