Жили-были старик со старухой - [38]
Никто не знал, что думала Ира, которой предстояло стать бабкой в сорок семь лет, но если бы кто видел ее лицо, склонившееся над машинкой, потерявшее за войну милую свою округлость, но светлое и только растерянное немного, увидел бы и улыбку, — и резвое «зингер-зингер-зингер» бежало навстречу этой улыбке. Несколько раз она даже начинала что-то петь, чего никто давно уж не слышал, а потом обрывала внезапно и вытирала лицо краем белой ткани: теплый был сентябрь.
Между этими двумя помещениями — Ириной комнатой и кухней, где старуха, сидя на кровати, заплетала на ночь жидкие белые косицы, — а вернее, между этими двумя полюсами, — думала и Надя, только не о ребенке, а о жилплощади, которую он будет скоро занимать, а значит, тоже о ребенке.
А что думала сама Таечка, выяснить не удалось: Ира отвела ее, тихо поскуливающую не столько от боли, сколько от неизвестности, в больницу, по привычке называемую еврейской, но официально числящуюся Третьей городской, и теперь она смотрела из окна родильного отделения на деревья. В кронах показались желтые пряди, а внизу, в траве, уютно лежали каштаны. Кожура кое-где лопнула, и прорезалась блестящая головка ядра.
О Тайке волновалась одна Ира. Старуха, родившая дома всех семерых, только снисходительно посмеивалась: ишь, моду какую взяли нынешние, а Максимыч не тревожился о внучке, поскольку озабочен был совсем другим.
В этот раз он отправился рыбачить вместе с Федей. Зять ох как любил посидеть над поплавком — для этой цели у него в чулане толпилась веселая стайка удочек, — но позволить себе такое мог очень редко. Интересно, о чем старик собирается с ним говорить, даже сына брать отсоветовал. Опять о крестнице? Семен колобродит? Или с Надеждой не поладили?
Феденька, человек самой гуманной профессии и сугубо гражданский, все свои выстрелы уложил в «молоко». Он был так ошеломлен просьбой тестя, что дергающийся поплавок заметил поздно и теперь копался в банке с червяками, выигрывая время для ответа. Максимыч подробно рассказал обо всем, что услышал ночью в больнице.
Наживку-то зять нацепил, но удочку не забрасывал, и червяк то замирал, то напрягался, выгибаясь, словно на качелях раскачивался, да и сам Феденька чувствовал себя примерно так же. Так вот почему он не велел сына брать.
— Зачем вам, папаша, — проговорил неохотно, — только душу рвать. Да я и мало что знаю, — спохватился тут же, в то время как тесть неторопливо закурил и сунул горелую спичку обратно в коробок.
— Так ты что сам видел, что от людей знаешь, а то, може, в газетах читавши… ты скажи: на кой профессор всю ночь сидел, людей с больницы выписывал, как тот говорил?
— А-а, так вас смотрел профессор…? — улыбнулся Феденька и вкусно разгрыз орех, изобразив трудную фамилию. — Он успел эвакуироваться с семьей, потому и остался в живых, слава Богу. Скольких спас…
Старик тихонько тронул его за рукав:
— Как было, сынок?
Рассказывать было непривычно: Федор Федорович ни разу до сих пор этого не делал, не рассказывал и не обсуждал, да и с кем было?.. Те, кого это касалось напрямую, сначала смеялись и не верили, а потом, в гетто, тоже не верили, но уже не смеялись. Когда он встретил доктора Блуменау?.. Ну да, у магазина «САНИТАРИЯ»; конечно же, до гетто, это еще летом было, они стояли в тени под маркизами, и тот прямо у витрины громко заговорил, тогда еще говорили громко: «Какой же это бред, вы подумайте, коллега: ни с того ни с сего срываться и ехать Бог знает куда и от кого, главное? — от немцев! Так я же и говорю, бред!..»
Бред начался очень скоро после этой встречи, и Федор Федорович пытался вспомнить первые симптомы. Может, улица? К еврейскому кладбищу, серые каменные стены которого делали его похожим на крепость, вела крутая, вымощенная булыжником улица, с царских времен называвшаяся Еврейской. В самый расцвет демократии — уже памятник Свободы строили — улица стала называться ни много ни мало «Жидовская», так прямо и было набито на эмалевой табличке. Много времени не понадобилось: люди стали пользоваться этим названием, ссылаясь на то, что в местном языке, дескать, нет более подходящего слова, в то время как слово и было, и есть, но филологи муниципалитета предпочли лексикон погрома. Нет, улица была раньше, хотя…
Плакат, конечно; он и не забывал его никогда. Среди всей антисемитской бумажной дряни, появлявшейся, как яркий лишай, на стенах домов, на столбах, этот плакат бросался в глаза и красками, и текстом. Простая местная семья: женщина в косынке держит руки на плечах сынишки с такими же остзейскими чертами лица, а мужчина в кепке обнимает жену, защищая от источника зла за их спинами: хитрого, циничного еврея. Вот он, наложивший печать скорби и безысходности на честные трудовые лица! Текст был прост, как ломоть хлеба: «ЖИД ВАМ ЧУЖОЙ. ГОНИТЕ ЕГО ПРОЧЬ!». Такое могло вдохновить, и плакатов было назойливо много, но ведь не плакат же выпустил на волю бред и придал ему дьявольскую силу, и не от плаката загорелась синагога в пятницу вечером?
— Так мало ли что — пожар. Свечу, може, уронил кто, а оно и занялось, — ошеломленно бормотал Максимыч, — кто знает.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

«Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель», – так отозвалась Дина Рубина о первой книге Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой». С той поры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна», как бы отметившей «толстовский отблеск» на ее прозе. И вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предъявляет читателю книгу малой прозы – рассказов, повести и «конспекта романа», как она сама обозначила жанр «Счастливого Феликса», от которого буквально перехватывает дыхание.
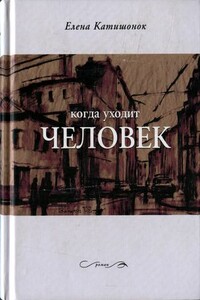
На заре 30-х годов молодой коммерсант покупает новый дом и занимает одну из квартир. В другие вселяются офицер, красавица-артистка, два врача, антиквар, русский князь-эмигрант, учитель гимназии, нотариус… У каждого свои радости и печали, свои тайны, свой голос. В это многоголосье органично вплетается голос самого дома, а судьбы людей неожиданно и странно переплетаются, когда в маленькую республику входят советские танки, а через год — фашистские. За страшный короткий год одни жильцы пополнили ряды зэков, другие должны переселиться в гетто; третьим удается спастись ценой рискованных авантюр.

Действие новой семейной саги Елены Катишонок начинается в привычном автору городе, откуда простирается в разные уголки мира. Новый Свет – новый век – и попытки героев найти своё место здесь. В семье каждый решает эту задачу, замкнутый в своём одиночестве. Один погружён в работу, другой в прошлое; эмиграция не только сплачивает, но и разобщает. Когда люди расстаются, сохраняются и бережно поддерживаются только подлинные дружбы. Ян Богорад в новой стране старается «найти себя, не потеряв себя». Он приходит в гости к новому приятелю и находит… свою судьбу.

«Поэзии Елены Катишонок свойственны удивительные сочетания. Странное соседство бытовой детали, сказочных мотивов, театрализованных образов, детского фольклора. Соединение причудливой ассоциативности и строгой архитектоники стиха, точного глазомера. И – что самое ценное – сдержанная, чуть приправленная иронией интонация и трагизм высокой лирики. Что такое поэзия, как не новый “порядок слов”, рождающийся из известного – пройденного, прочитанного и прожитого нами? Чем более ценен каждому из нас собственный жизненный и читательский опыт, тем более соблазна в этом новом “порядке” – новом дыхании стиха» (Ольга Славина)

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

«Травля» — это история о том, что цинизм и ирония — вовсе не универсальная броня. Герои романа — ровесники и современники автора. Музыканты, футболисты, журналисты, политтехнологи… Им не повезло с эпохой. Они остро ощущают убегающую молодость, может быть, поэтому их диалоги так отрывочны и закодированы, а их любовь не предполагает продолжения... «Травля — цепная реакция, которая постоянно идет в нашем обществе, какие бы годы ни были на дворе. Реакцию эту остановить невозможно: в романе есть вставной фрагмент антиутопии, которая выглядит как притча на все времена — в ней, как вы догадываетесь, тоже травят».

Этот роман – «собранье пестрых глав», где каждая глава названа строкой из Пушкина и являет собой самостоятельный рассказ об одном из героев. А героев в романе немало – одаренный музыкант послевоенного времени, «милый бабник», и невзрачная примерная школьница середины 50-х, в душе которой горят невидимые миру страсти – зависть, ревность, запретная любовь; детдомовский парень, физик-атомщик, сын репрессированного комиссара и деревенская «погорелица», свидетельница ГУЛАГа, и многие, многие другие. Частные истории разрастаются в картину российской истории XX века, но роман не историческое полотно, а скорее многоплановая семейная сага, и чем дальше развивается повествование, тем более сплетаются судьбы героев вокруг загадочной семьи Катениных, потомков «того самого Катенина», друга Пушкина.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)