Жила-была переводчица - [11]
Вот видите, Люси, чье имя жгуче, Люси моей Весны, – едва заговорим с Вами – и строки запели. Как дрозд, там в саду, за окном.
Катя[84] Вам кланяется. И – без параллелизма – мой искренний привет m-r Rais[85]. Где Вы и что Вы?
Я в весенней тоске.
Горите минутой, Люси.
Ваш Бальмонт.
Единственной сценической отдушиной для Людмилы в начале 1910‐х гг. остается чтение стихов на утренниках в театре «Одеон», организуемых в рамках Осенних салонов живописи поэтом и критиком Шарлем Морисом, другом и соратником Поля Верлена и Стефана Малларме. Участие в утренниках способствовало сближению Людмилы с еще одним модернистским кругом – литературной группой «Кретейское аббатство» под руководством поэтов Жоржа Дюамеля, Шарля Вильдрака и Александра Мерсеро, которую одновременно с Людмилой открыл для себя и Брюсов[86]. Однако для Людмилы, тяготящейся – вплоть до нервного срыва и попытки самоубийства – семейной жизнью как «мучительным отказом от свободы» ради благополучия дочери, самым значительным из новых знакомств становится встреча с поэтом-модернистом Андре Спиром, старым другом Жюля Рэ, который всячески поощрял переход жены из театра в литературу как более приемлемый вид искусства с точки зрения его собственного положения в обществе[87].
С Андре Спиром и его женой Габриэль Людмилу свяжет тесная дружба на всю жизнь[88]. Она восхищается стихами Спира не меньше, чем независимостью его суждений. В Спире Людмила находит качества, поразившие ее когда-то в Гюставе Кане: гордость еврейским происхождением и презрение к конформизму. Юрист по образованию, организатор «народных университетов» и профсоюзного движения, сионист, что было тогда нетипично для французских евреев, да еще и с репутацией дуэлянта, не допускавшего проявлений антисемитизма в своем присутствии, Спир был противоположностью Жюлю Рэ – ассимилянту, который стыдился своих еврейских корней и придерживался радикальных убеждений лишь моды ради. Даже экслибрис Спира бросал вызов культурному большинству, полемически апроприируя общее место триумфальной католической иконографии – женскую аллегорию иудаизма, униженную Синагогу с завязанными глазами и сломанным копьем. В компании Спиров Людмиле «легко дышалось»[89], тем более что второй брак, несмотря на разочарование «полумещанством» мужа, стал для нее очередным вызовом общественному мнению. Не следуя примеру жены Гюстава Кана и оставаясь христианкой, Людмила выдвигает юдофилию в центр своего поведенческого кода, что делает ее белой вороной как в общеевропейском культурном контексте, где антисемитизм остается признаком хорошего тона до середины XX в., так и в транснациональной модернистской культуре, относившейся к евреям ничуть не лучше[90].
О том, что «еврейский вопрос» может стать орудием самоутверждения в переходный жизненный момент, Людмила поняла из отклика семьи на свой брак с Жюлем Рэ. Если ее первый супруг не понравился русской родне «декадентским» образом жизни, то второй ужаснул еврейским происхождением. Вскоре после рождения Марианны Людмила пеняла матери, вернувшейся к больному мужу в Петербург, на невнимание семьи, однако Анна Петровна ответила встречным упреком:
Ведь ты поставила себя в такие условия, область которых мне далеко неизвестна сполна, и я в нее проникать считала бы навязчивостью, да и стеснялась. Понимаешь же, что есть что-то неладное, неналаженное. ‹…› Я папе все о тебе кратко рассказала и о девочке тоже сказала. Одного, что не сказала, это – что он еврей. Папа был еще худой, бледный, и мне жаль было сказать ему то, что могло его очень огорчить. Его не узнаешь, как он когда отнесется, но именно мне показалось, что это ему все же будет очень тяжело, и я не сказала, а он по фамилии не догадался. Вова <старший брат Людмилы, петербургский юрист> сейчас догадался и ужасно огорчен и обижен[91].
Подобная реакция несколько озадачила Людмилу, так как интеллигентская культура, в которой она росла, занимала, особенно после погромов 1880‐х гг., принципиальную позицию, противоположную антисемитизму властей и консервативно-охранительным политическим течениям. Юдофильские повести Элизы Ожешко, которые читала ей мать, и дидактические беседы с отцом по «еврейскому вопросу» были частью ее детских воспоминаний[92]. Однако к расхождению теории с практикой ей было не привыкать, поэтому всерьез ее ранила лишь просьба семьи не приезжать с мужем и ребенком в Россию к смертельно больному отцу. Поначалу ее отговаривали под тем предлогом, что евреям запрещен въезд без особого разрешения[93]. Затем, уже после смерти Ивана Клементьевича, мать писала:
Раз как-то папа говорил в таком роде: «‹…› Люся вынуждена была выйти замуж за жида»… Я возмутилась, заявив, что ты его любила и уважала и т. д. и т. д. «Почем Вы это знаете?» – Да знаю от нее, и она мне писала. «Ну, слава Богу, а я этого не знал». Вообще же он, кажется, дурно к евреям не относился ‹…› Остаюсь я и Вова. Тут дело хуже. Разумеется, против Жюля Рэ я ничего не имею ‹…› Думаю, что он имел на тебя хорошее влияние ‹…› Но вообще к евреям симпатии не чувствую, я чужда им и, вероятно, ни при каких обстоятельствах не могла бы с ними сродниться. Кроме того, здесь, в России, и особенно за последнее время, они много зла делают. Припомни, с Вовою, в сущности, вы никогда близки не были. Сколько я помню – ему не нравилась твоя манера держать себя, твои свободные взгляды на нравственность, на брак и т. д. Он не мог этого переваривать и отдалялся. Теперь, это правда, ему очень не нравятся евреи, до боли. Я ему сказала: «Люся пишет, что ты ее вычеркнул…» Он ответил: «Не я ее, а она сама себя вычеркнула». Меня надо пожалеть, не много мне радостей от таких отношений детей друг к другу! Но и тут я утешаюсь. Хорошо, что я не вижу страшного несчастия в такой разродненности: не сходитесь, будьте каждый счастлив по-своему. Не ломайтесь в угоду семейственности: может быть счастье и вне ее

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.
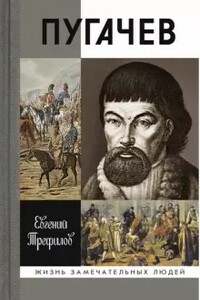
Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.